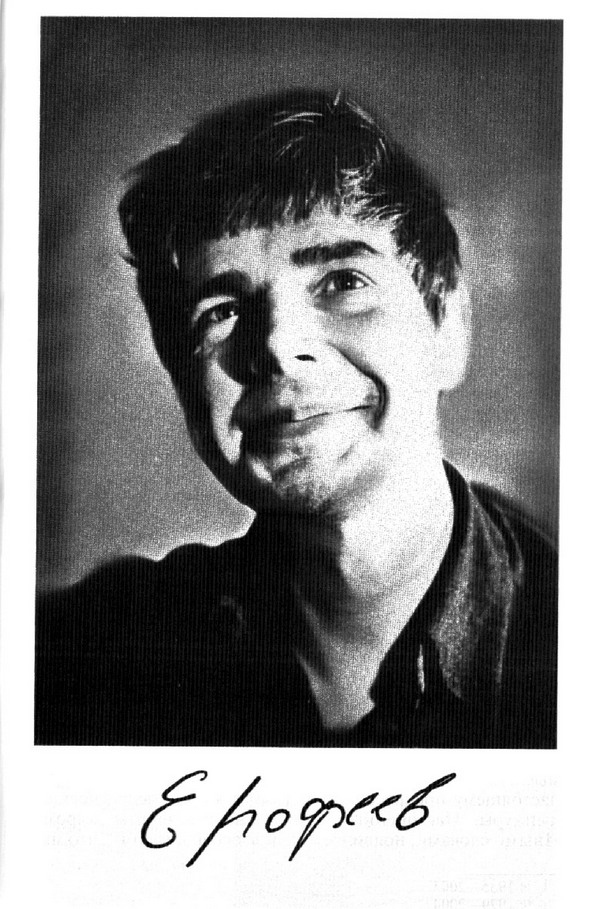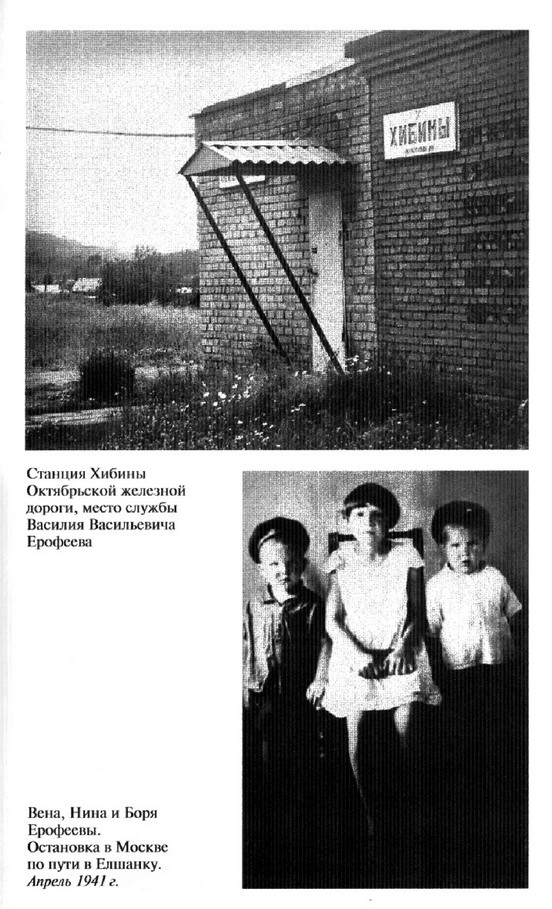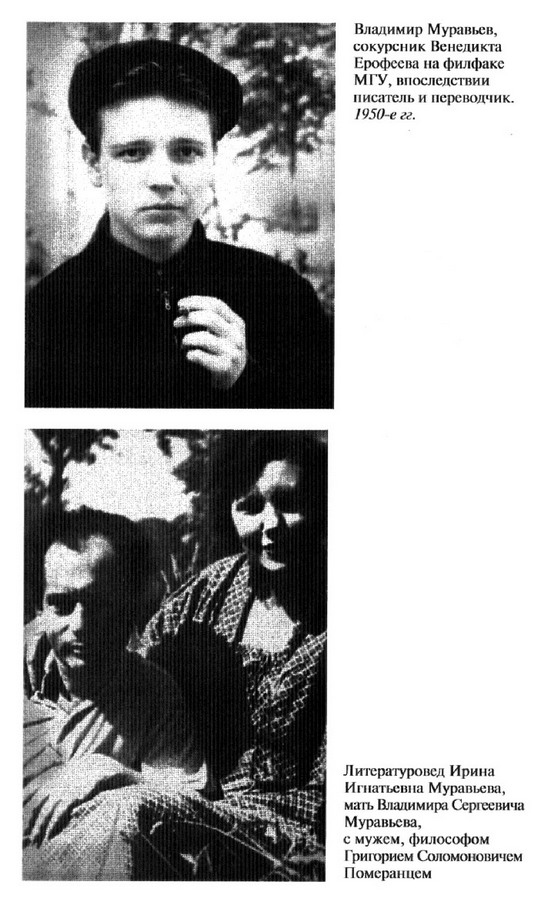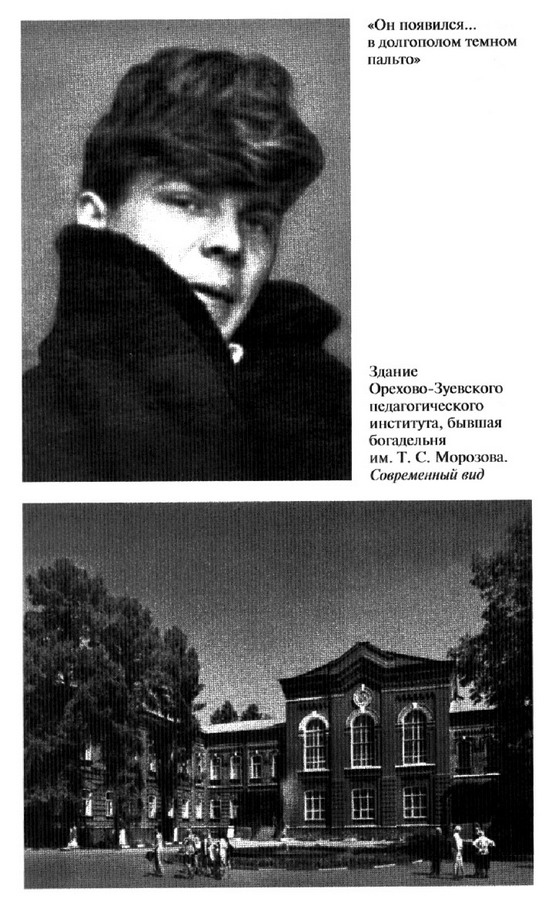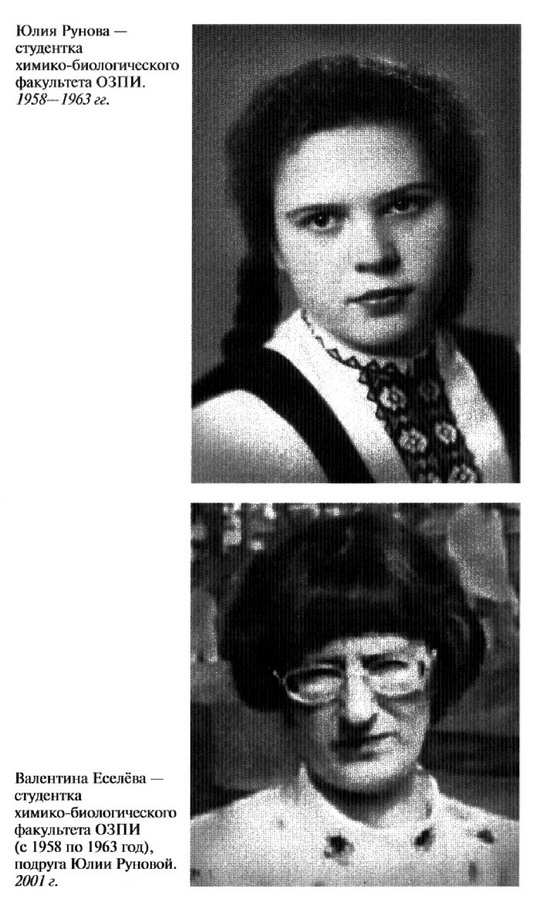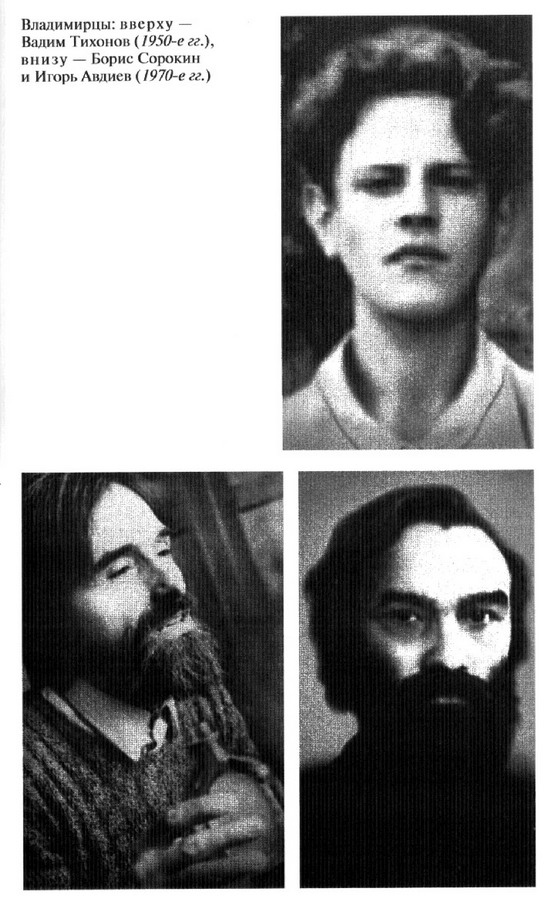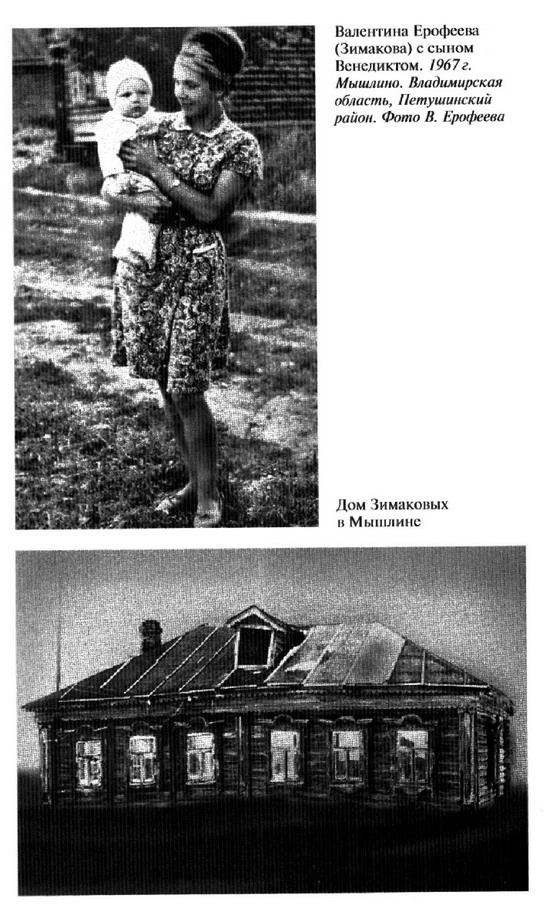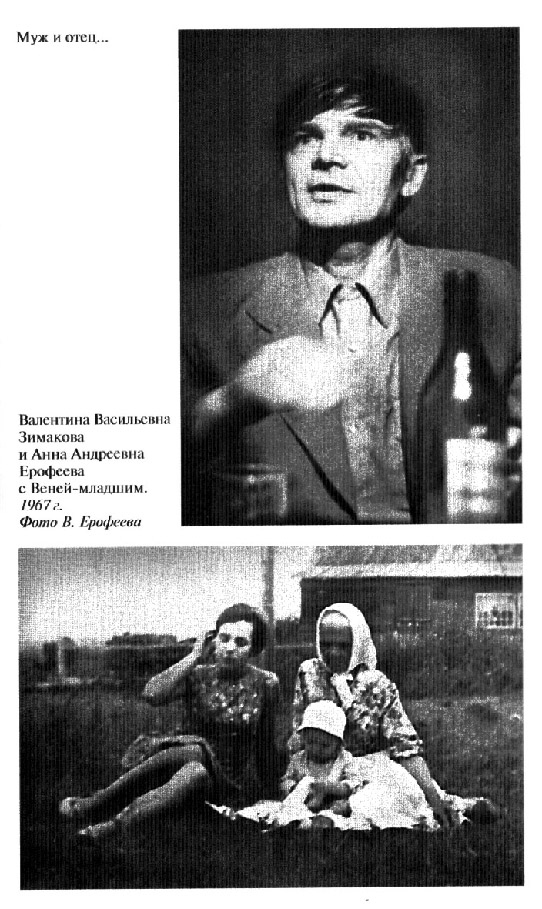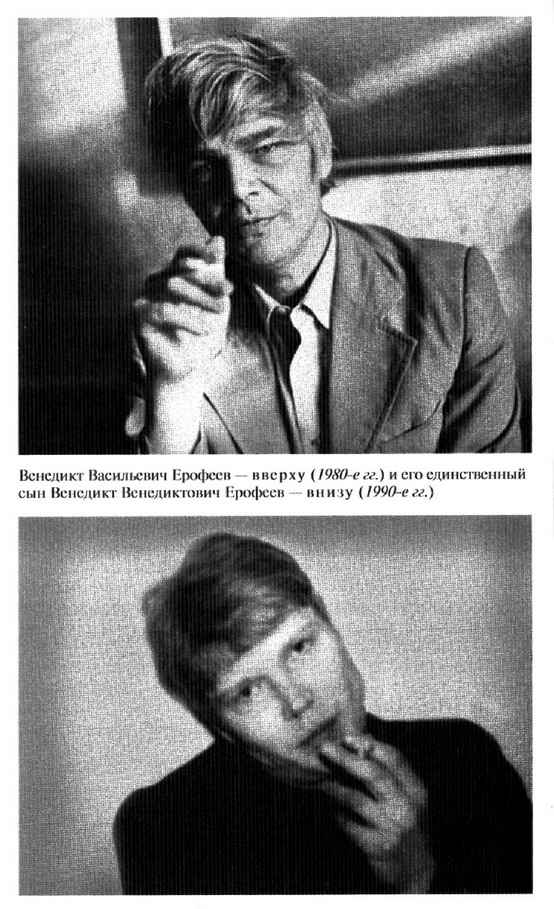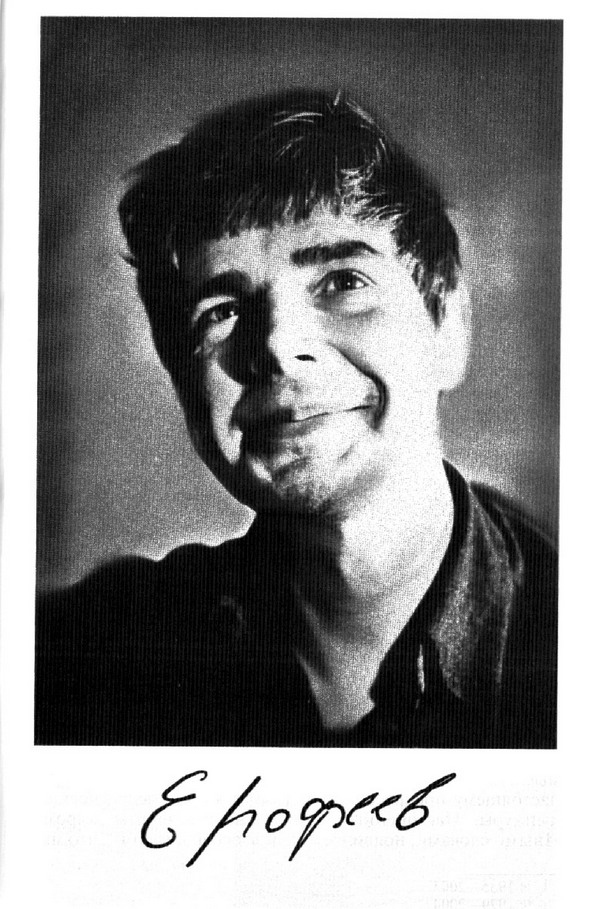

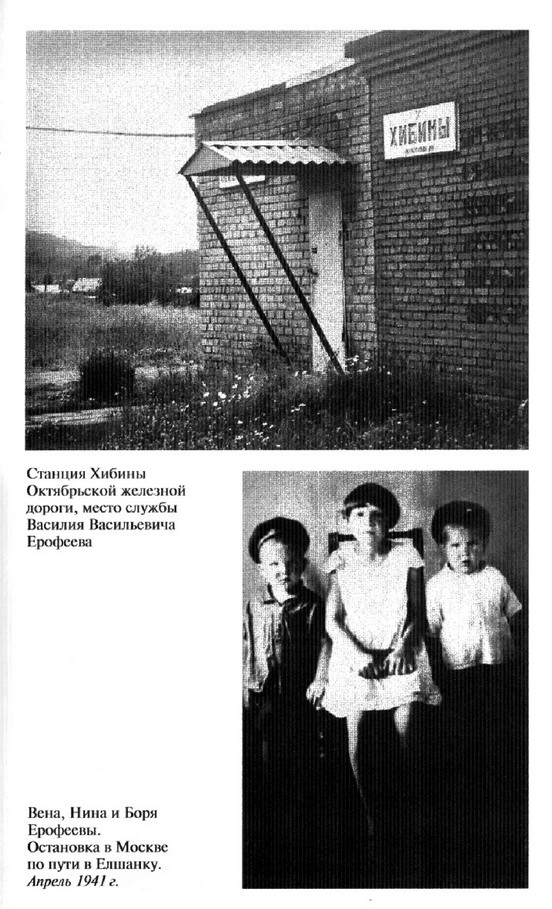


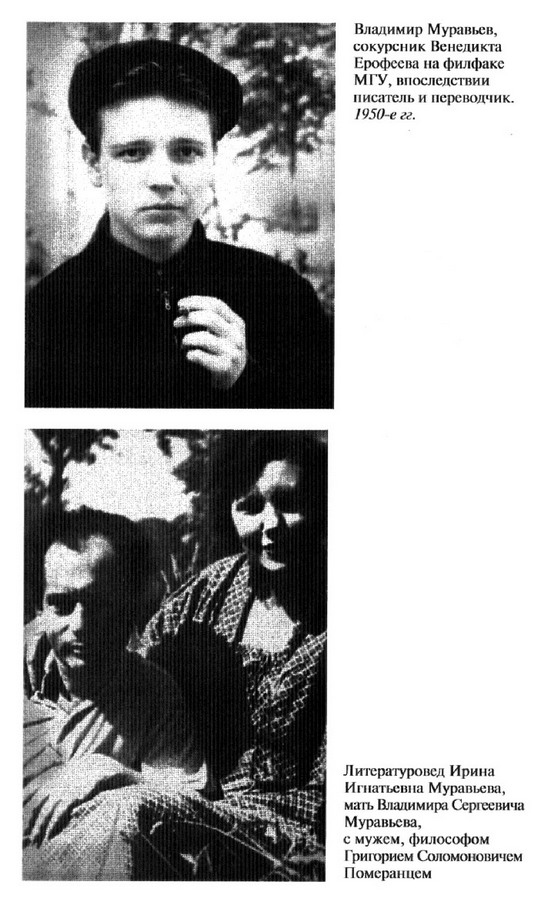

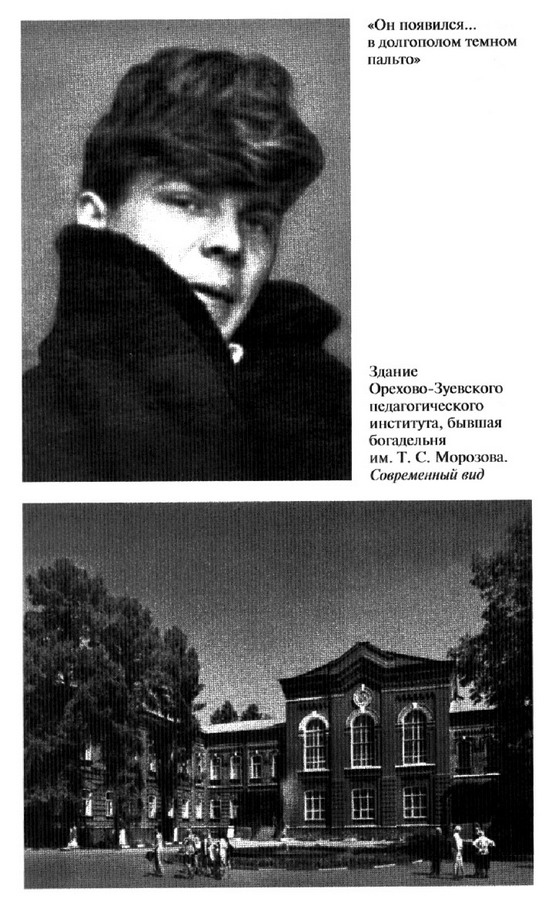
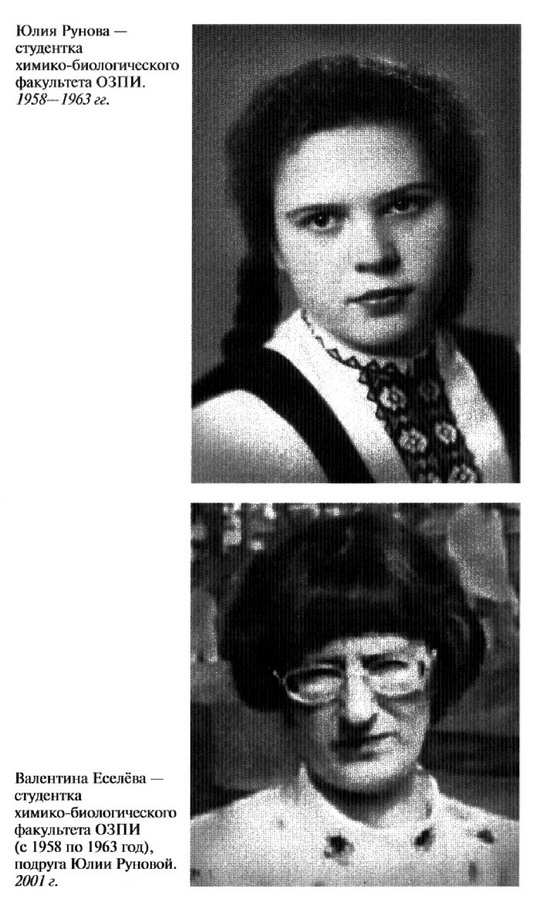

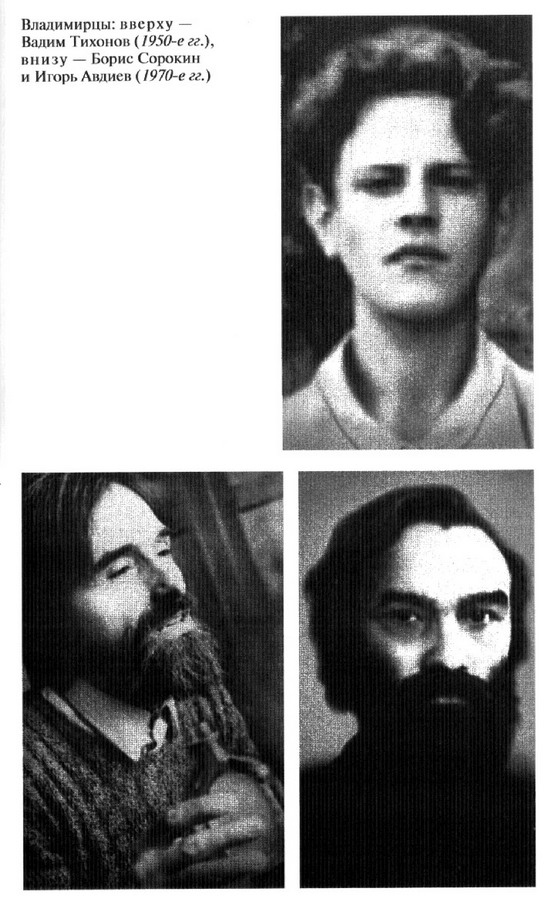
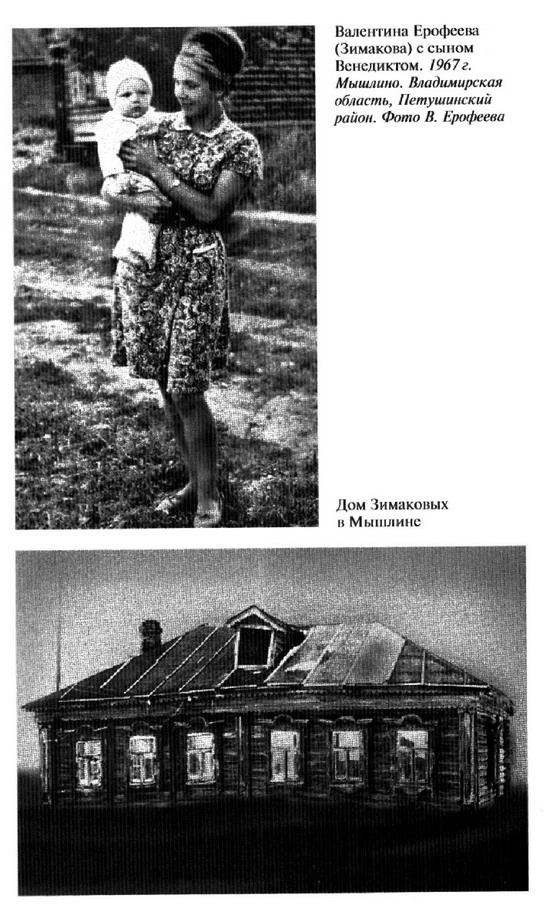
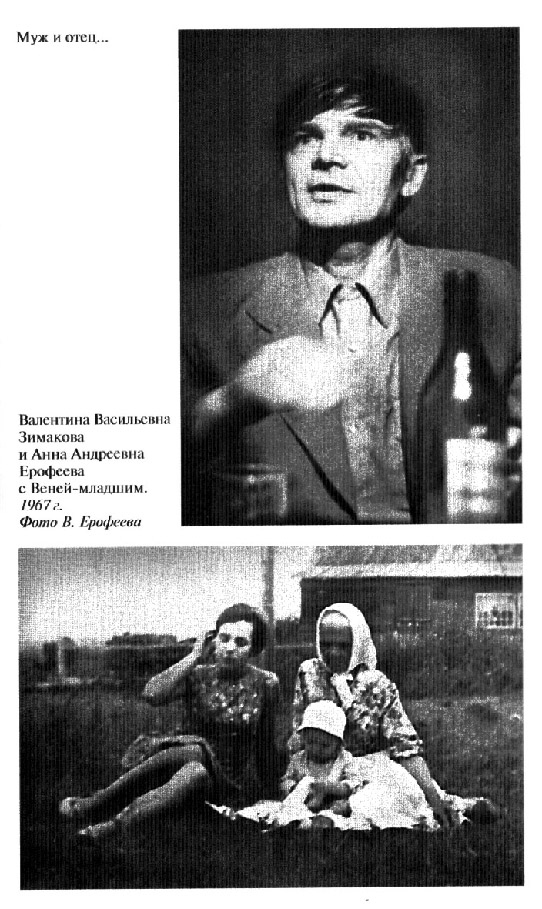


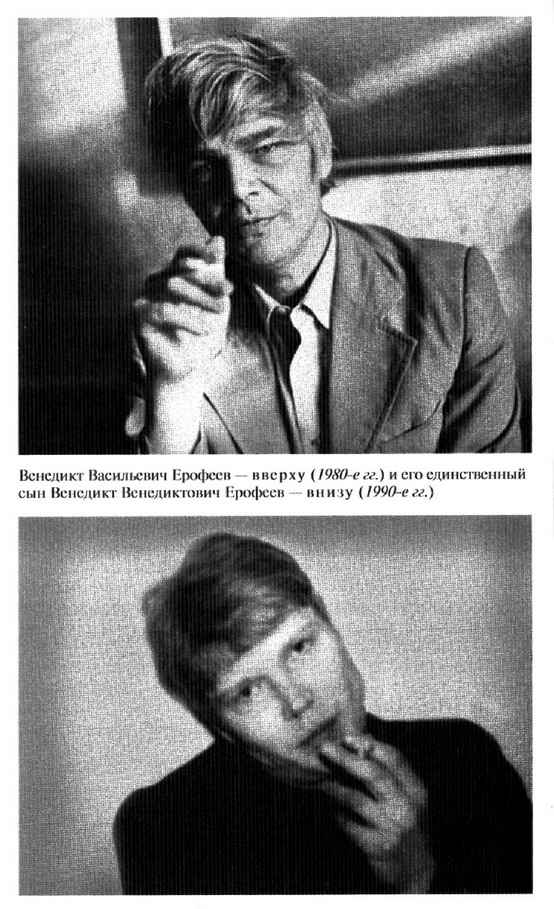
В СССР появились «другая литература» и «другое искусство». Квартирные литературные посиделки сменились выступлениями поэтов у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Вот что вспоминала об этом поэт Алёна Басилова: «Я любила кормить голубей на площади Маяковского, ведь я жила неподалёку на Садово-Каретной улице. Я кормила голубей у памятника Маяковскому, и то ли толпа меня увлекла, то ли сама заинтересовалась, но я оказалась в самом центре происходящих событий. Вокруг памятника кишмя кишели люди, постоянно что-то читали. И я вдруг увидела Юрия Галанскова (1939—1972). Он читал “Человеческий манифест”, это было в духе Маяковского. У него была политическая поэзия, немножко наивная. Когда он прочитал “Человеческий манифест”, начались какие-то странные вещи. Его схватили люди в штатском и вытащили из толпы. Потом передали в руки милиционеров. А потом какие-то дружинники его куда-то повели. Если бы я не слышала стихов, я не обратила бы никакого внимания. Но поскольку я увидела, что руки выкручивают поэту, я, естественно, стала возмущаться. И тогда мне также стали выкручивать руки. Вот так вместе с Юрой Галансковым я попала в какой-то тайный штаб оперативного отряда. И тут на моих глазах его стали избивать, били головой о стену, ногами в живот, кричали: “Сволочь! Ты будешь писать стихи?” И он кричал им в ответ: “Буду!” На меня его избиение произвело страшное впечатление. Я долгое время не могла прийти в себя. На Маяковке я ещё познакомилась с Толей Щукиным (1940—2012), стихи которого мне очень понравились. Потом познакомилась с Володей Ковшиным, Мишей Капланом (1943—1988). Всех этих людей всегда сопровождал Коля Котрелёв, самый образованный из всех, кого я там встречала»4.
Несанкционированной была и так называемая Бульдозерная выставка, организованная 15 сентября 1974 года художниками-нонконформистами на московской окраине в Беляеве, на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. Её организатором считается Оскар Яковлевич Рабин. Власть не придумала ничего глупее, как в то же самое время на пустыре, где художники предполагали разместить на подрамниках свои картины, устроить посадку саженцев деревьев, в связи с чем была подтянута тяжёлая техника. Кто-то из художников повис на ковше бульдозера, и его протащили почти через весь пустырь. Смех и слёзы! Событие это заняло несколько минут, но прогремело на весь мир. Это был впечатляющий вызов художников репрессивному режиму.
Через две недели, 29 сентября 1974 года, власть пошла на уступки и разрешила проведение четырёхчасовой выставки на открытом воздухе в Измайловском парке. Здравый смысл впервые победил идиотизм советской идеологии и взял под сомнение взгляд на советскую культуру как на идеологическое оружие. Ведь она должна была соответствовать идеалам партийности, то есть неукоснительно следовать загадочному методу социалистического реализма и от него ни на йоту не отступать.
Предлагаю считать 29 сентября 1974 года датой восстановления в законных правах советского авангардного искусства и отмечать этот день как общенациональный праздник, сделав все музеи современного искусства в России бесплатными для посещения.
Венедикт Ерофеев хорошо знал Оскара Яковлевича. Их познакомил поэт Генрих Сапгир. Он не раз встречался с этим выдающимся художником и замечательным человеком, одним из лидеров неофициального искусства в СССР, дома у Леонида Ефимовича Пинского, а также неоднократно посещал его в Лианозове.
У Оскара Яковлевича Рабина и Венедикта Васильевича Ерофеева много общего в манере письма. Тут не важно, что один был живописец, а другой — писатель. Эта близость объясняется тем, что им обоим импонировал духовный опыт восточных мудрецов. Он был созвучен их восприятию жизни: научиться доверять собственным глазам, то есть увидеть суть изображаемого объекта (самое сложное есть самое простое) и именно её перевести на тот художественный язык, который каждый из них использовал.
Подкреплю своё утверждение углублёнными рассуждениями на эту тему Аркадия Неделя. Он изложил их в монографии «Оскар Рабин. Нарисованная жизнь»: «Рабин остаётся с повседневностью. Он рисует, что видит, как ребёнок. Дома, улицы, помойки, людей, кошек и т. п. Это его устраивает, но чем дальше, тем меньше. Он чувствует, что повторяется. Одинаковые мотивы, похожие ощущения, цвета и эмоции. Его глаз требует перемен, но какого рода? Он понимает, что начать надо с себя, с собственной техники письма. Объект не важен. Как и философия, искусство может взять мир в скобки, оставив для себя самое главное — essential mundi. (лат. сущность мира. — А. С.). Об этом размышляли все: и Леонардо да Винчи, и Ши-тао (настоящее имя Жу Жоцзи; 1642 — 1707 — китайский художник династии Цин, каллиграф, садовый мастер, теоретик живописи. Его псевдоним буквально значит «Окаменевшая волна». Глубоко воспринял принципы дзен-буддизма и даосизма. — А. С.), и многие другие. Так, в Китае танский поэт Ван Вэй своим трактатом “Тайна живописи” кладёт начало философской рефлексии о том, как рисовать очевидное — то, что находится у тебя перед глазами. В даосской теории живописи/каллиграфии (ти ба), идущей от самого “Дао дэ цзина”, именно сие очевидное предстаёт самой большой загадкой. “Есть” (дао) — путь, охватывающий собой всё, включая видимое и видящего; “есть” (миао) — трудноуловимая сущность пути, без схватывания которой художник и картина не сбываются. Чтобы это произошло, взгляд должен стать непредвзятым, незаинтересованным или, проще, детским. Любопытно, что иероглиф (зи) означает и мудреца, и ребёнка. В “Дао дэ цзине” описывается такое состояние “ребячества”, детского отношения к миру как совершенная мудрость, как мастерство. <...> Художник живёт и не живёт в этом мире; он не отвлекается на мирские дрязги, не растрачивает силы на проходящее, не мутит воду — художник учится у природы. Он даёт своему духу сойтись с ней, набраться от неё естественности. <...> Но искусство — это не слепое подражание (ещё цзиньские мастера соединили его с мистикой и мудростью, — с иероглифом, — дабы одно помогало другому постичь тайну вечного), а содействие природе. Художник ей не раб, а ученик; помимо прочего, он учится у неё точности»5.