Онлайн книга
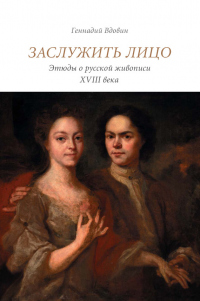
Примечания книги
1
У всеспасительного для историков В. И. Даля читаем: «Ошу́рки <…> вытопки сала, выварки, вышкварки; подонки при скопке масла; избоина, макуха, перегноенная на мыло; вообще, остатки, подонки, поскребыши, оборыши, крохи <…> Ошу́рковый обед <…> состряпанный, на другой день после пира, из остатков» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СП6.; М., 1881. С. 779).
2
Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. № 121. Здесь и далее — курсив в цитатах (кроме оговоренных случаев) мой.
3
Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову // Мастера искусств об искусстве. Т. 6. М., 1969. С. 40.
4
О взаимодействии «сакрального» и «просранного» в России XVII в. см.: Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 135–195. См также.: Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к новому времени (философско-антропологический анализ русской культуры XVII — первой трети XVIII века). М., 1999. Герой эпохи очень остро, персонально переживает встречу с христианскими святынями, увиденными им пронзительно, по-своему, даже если это пишется в почти публичном «Юрнале»: «В том городе [Магдебурге. — Вд.] видели церковь святого Маврикия <…> в той церкви пред олтарем камень круглый мраморный, на котором знать во многих местах, а больше в одном, зело явна кровь Удона епископа, который в ночь при явлении страшном на том месте казнен от Маврикия, той церкви патрона; в той же церкви лежит лохань, над которою Пилат руки умыл, исподняя доска фонаря, который перед Июдою несен, лестница, по которой ходили снимать Христа» (цит. по: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858. С. 596).
А вообще, набивший оскомину тезис «обмирщения» и «секуляризации» в русской культуре Нового времени, навязанный экономистами, политологами и социологами, принадлежащий к тем постулатам, которые, явившись раз, не подвергаются более критике в силу своей «очевидности», уж позволим себе рассмотреть чуть подробнее. Он быстро приобрел репутацию аксиомы, причем незыблемость его утверждали все. Обратившись конспективно к генезису этого тезиса в русской гуманитарной науке, отметим несколько принципиально важных обстоятельств.
Во-первых, вывод о «секуляризации» русской культуры во второй половине XVII–XVIII в. был сделан практически одновременно, в 1860-е гг., социал-демократической и клерикальной школами историософии.
Во-вторых, антагонизм двух этих традиций — мнимость. Обе использовали прием отбора и педалирования годных фактов при игнорировании негодных. Если одни рассуждали о сокращении культового строительства в это время, очевидно противореча реалиям, то вторые справедливо отмечали неуклонный рост этого строительства, предпочитая, в свою очередь, не замечать, что сам храм стал иным (в планиметрии, декорации, иконографии…). Если одни избирали символом эпохи Феофана Прокоповича, перечисляя заслуги и дарования которого, будто забывали, что он не литератор, не политик, не ученый, не философ, но священник прежде всего, то другие полагали таким символом Тихона Задонского, хранившего благочестие в суете и искушениях «столетья безумна и мудра». Если одни, сказать короче, вели счет победам, завоеваниям, обретениям светской культуры, то другие множили список утрат в сакрализованном тезаурусе. И те, и другие, механически перенося термин экономической истории, политической экономии, юриспруденции в историю искусства, ставили знак тождества между такими разными процессами, как «секуляризация монастырских земель» и «секуляризация культуры», констатировали убывание сакрального, умаление веры, приращение светского в России XVIII–XX вв.
Ясно, в-третьих, что обе историософские традиции разнятся не методом, но лишь оценкой процесса. К тому же обе школы не пересматривали идею «секуляризации» уже как полтора столетия. Единственная корректива была внесена в 1920–1930-е гг., когда пресловутые «вульгарные социологи» — самые агрессивные из наследников социал-демократии — поставили знак равенства между понятиями светское и атеистическое, с чем их оппоненты молчаливо и не без удовольствия согласились. Последний камень в устойчивую пирамиду теории секуляризации был положен представителями русской семиологии, которые в 1970-е гг. предложили интерпретировать оппозицию «сакральное — светское» как антиномию.
Ныне принятое позитивистское истолкование процесса, удобное как для обыденного, так и для научного сознания, позволяет менять полярность оценок в зависимости от политической конъюнктуры. Если прежде Петр Великий имел репутацию гонителя православия, то об эту пору его реноме меняется в противоположную сторону. Если позавчера Ломоносова рекомендовали как материалиста и безбожника, то сегодня следует припомнить, что образцом ученого Михайла Васильевич почитал Василия Великого, который «довольные показал примеры, как содружать спорные по-видимому со Священным писанием натуральные правды». Если недавно теорию «телесности души» Радищева надлежало выводить только из французских вольтерьянских философем, не принимая во внимание, что восходит она к св. Макарию Египетскому, то нынче модно поступать наоборот. Если в недавнем прошлом иконопись В. Л. Боровиковского была лишь маргинальным эпизодом творчества великого портретиста, то теперь, кажется, недалек час, когда перед нами предстанет иконописец, писавший портреты на досуге. Если вчера А. С. Пушкин слыл атеистом, тираноборцем, без пяти минут участником декабрьского мятежа, то сегодня перед нами встает образ законопослушного и христианнейшего поэта, не писавшего ни «Гаврилиады», ни «Что в имени тебе моем…», где поразительно сосуществуют любовная ламентация и неожиданная парафраза на «Книгу Судей…» («…что ты спрашиваешь об имени моем? оно чу́дно» [Суд. 13:18]). Понимая religio как связь коллектива и субъекта с Вышним, приходится признать, что исторически становятся и эволюционируют «мы» и «Я», с одной стороны, и представление о Божестве — с другой.
Итак, обе историософские традиции, по сию пору оказывающие решающее влияние на отечественную мысль (вне зависимости от того, рефлексируем ли мы это обстоятельство), согласились с тем, что нововременной процесс описывается при помощи антиномии «сакральное — светское», и, сделав, соответственно, ставку на один из ее полюсов, разъяли историко-культурный процесс на крайности правой веры и прогрессивного атеизма. Между тем чуть более пристальное знакомство с источниками не оставляет сомнений в том, что эпоха таковых крайностей почти не знает. Если говорить об атеизме, то даже те редкие случаи, что рассматриваются нами как безбожие — дело Я. Козельского, дело С. Десницкого, — могут быть «квалифицированы» как инаковерие, но никак не атеизм. Религиозность русских не устают отмечать едва ли не все путешественники и мемуаристы. Не может быть и речи об оскудении веры. Скорее, напротив, теологические вопросы особо актуальны. Иначе зачем бы, к примеру, Синоду несколько раз настойчиво повторять указы, предписывающие «всем светским людям, какого б оные звания ни были <…> запретить между собою <…> азартно (!) иметь диспуты и распри о Бозе и его всемогуществе, о Св. Троице, о Христе Спасителе, о Св. Писании и о всем, что до богопочитания касается». Самый краткий обзор состояния дел в XVIII столетии — когда каждый блистательный светский интерьер не забывают украсить образом и не одним, когда все светские люди «имеют диспуты и распри о Бозе», когда размах культового строительства — небывалый, когда миссионерская деятельность Православной церкви активна, как никогда прежде и никогда после, когда продолжают властвовать суеверия тысячелетней давности и просветителям еще и в 1786 г. приходится спорить с тем, что «к некоторым женам и девицам летают ночью огненные змеи, то есть воздушные дьяволы и имеют с ними плотское совокупление, отчего те женщины весьма худеют», когда горячие вольтерьянские головы, добывая из фекалий очередной, необходимый для получения философского камня элемент, не забывают назидательно заметить, что «нельзя быть хорошим химиком, отрицая физическую возможность Великого Деяния», — не оставляет сомнения в том, что ситуация не может быть описана при помощи механического противоположения «сакрального» и «светского».
В онтологическом же смысле постановка проблемы трансформации религиозного чувства через оппозицию (тем паче через антиномию) «сакральное — светское» по меньшей мере некорректна. Очевидно, что каждый этнос, каждая эпоха, каждый этос формулирует свое понятие о сакральном, институирует свои святыни и свой ритуал поклонения им. Х. Г. Гадамер в известной книге справедливо отмечал: «Достаточно лишь вспомнить значение и историю понятия светскости: светское повергается перед святыней. Понятие светского, непосвященного (профана) и производное понятие профанации, следовательно, всегда предполагает понятие священного <…> светскость продолжает оставаться сакрально-правовым понятием и может определяться только с точки зрения священного. Законченная, совершенная светскость — это понятие монстр» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 198–199). И в этом смысле ситуация в России Нового времени — это ситуация не оскудения веры, не торжества атеизма, но некоей трансформации религиозного чувства. Оставляя теологам и философам решение проблемы возможности развития во времени самой Первопричины, отметим, оставаясь в границах своей темы, что результат этой трансформации отнюдь не всегда предполагал воцерковление.
Еще раз: проблема всякого Возрождения — проблема становления будущей «личности». И речь идет не просто о новорожденном «Я», но о харизматическом Ego, уверенном в провиденциальном и непосредственном вмешательстве Высшего в свою судьбу. Примерам нет числа, но ограничимся двумя, крайними для эпохи Возрождения в России по хронологии, конфессиональному выбору, социальному положению. Таков Аввакум: «Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: „За что Ты, Сыне Божий, попустил меня ему таково больно убить тому? Я веть за вдовы Твои стал! Кто даст судию между мною и Тобою?“» (Житие протопопа Аввакума им сами написанное и другие его сочинения. М.; Л., 1934. С. 89). Такова старуха Загряжская: «„Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто был Лжедмитрий, кто Железная Маска и шевалье д’Еон — мужчина или женщина? Говорят также, что Людовик XVI увезен из Тампля и его спасли: мне и об этом надо спросить“. — „Так Вы уверены, что попадете на небо?“ — спросил великий князь. Старуха обиделась и с резкостью ответила: „А Вы думаете, я родилась на то, чтобы торчать в прихожей чистилища?“» (пит. по: Русский литературный анекдот XVIII–XIX вв. М., 1990. С. 192).
Именно этот, неизвестный доселе герой, харизматическое «Я», уверенное в провиденциальном вмешательстве в его судьбу, активное и деятельное чрезвычайно, предпочитающее теперь апофатическому богословию катафатическую теодицею, институциональной благодати — персональную харизму, мистическому опыту — опыт когициальный, аллегорезе как механизму мышления — силлогистику, открывает новые, неведомые доселе стороны вероучения, трансформирующие бытие. Возьмем на себя смелость конспективно отметить некоторые из этих новшеств.
Во-первых, чрезвычайный интерес вызывает тринитарный догмат, дискутируемый при всяком ментальном переломе, но особенно активно — при началах возрождений, когда в полном объеме встают данные в христианстве «навырост» идеи личности и богочеловеческого. Вот, к примеру, одно из самых радикальных антропометрических его толкований беглым монахом Геронтием, судимым Синодом в 1733 г.: «Кроме человека несть Бога, а Троица есть человек, то есть отец — ум, сын — слово, которым говорим, дух же исходен есть дыхание человеческое». Последствия нового возрожденческого тринитаризма далеки. Это и опыты нового богословия храма (особенно настойчивые, кстати, именно в церквах во имя Троицы). Это и портрет как ведущий жанр эпохи, который не мог бы состояться без идеи личности, данной Европе и России через тринитарный догмат. Новорожденное «Я» ищет пути и формы персонального спасения.
Во-вторых, отметим особую остроту ощущения того, что «царствие Божие внутри нас». Такого рода «протестантские» настроения не были прерогативой элиты. Достаточно вспомнить ересь Тверитинова, и под пыткой упорно отвечавшего на вопросы следователей, признает ли он Церковь и посещает ли храм, что «Я-де сам церковь», отвергавшего возжжение свечей, поскольку «Богу что в огне треба. Он-де сам всем свет дал». То же видим и во второй половине столетия, когда, например, некий беглый солдат Евфимий, два с лишним десятилетия (!) смущавший Поволжье и даже Москву, проповедовал, что он сам — «странствующая церковь». Нетрудно увидеть связь такого мирочувствования с новым обликом храма, с портретописью, с философией…
В-третьих, амбивалентность нового тезауруса, не изолированное, как прежде, не рядоположенное, как совсем недавно, а непосредственное, буквальное сосуществование «+» и «−», «греха» и «блага», «морока» и «добра» в каждой точке времени и пространства.
Наконец апофатическая теодицея и персонализированное благочестие, постоянно искушающие требованием явить чудо и желанием вложить персты, обусловили миметизацию русской культуры XVII–XVIII вв., победное шествие «живоподобия».
Все отмеченные черты, составляющие основу нового религиозного чувства и вызывающие дискуссии среди не одного поколения исследователей, могут быть, конечно, описаны при помощи такого термина, как «протестантизм», что не раз уже и предлагалось, тем более что аналогии протестантским взглядам можно найти порой почти буквальные. Однако такое решение проблемы вряд ли корректно, если сравнивать русский «протестантизм» с подлинным североевропейским, фундамент догматики и мировидения которого составляет все же тезис «личной веры» как единственного и достаточного условия спасения. Сколь ни соблазнительно отмечать протестантские настроения в России — от ереси «жидовствующих» до сегодняшних дней, — речь скорее следует вести о постоянном искушении «духом протестантизма», если воспользоваться терминологией М. Вебера, — «духом протестантизма», пережитом российским менталитетом как бы в снятом виде, духом протестантизма, испытывавшим, кстати, в Европе начала XVIII в. сильнейший кризис.
Речь, на наш взгляд, может и должна идти не о секуляризации культуры России XVII–XVIII вв. как о процессе отчуждения и попрания святынь, не об обмирщении как умалении сакрального, но о новом религиозном чувстве, о новом благочестии, о новой теодицее, оказывающих непосредственное влияние и на развитие искусства, и на искусствопонимание, и на культуру в целом. Вероятно, заменой скомпрометировавшим себя терминам «секуляризации» и «обмирщения» может стать почти забытое, но емкое и меткое словцо Р. де ла Бретона «рассуеверивание», которому вторит спустя два столетия М. Вебер, толкующий о «великом историке-религиозном процессе расколдования мира».
Стало быть, давно сложилась ситуация, когда корпус фактов вошел в безнадежное противоречие с прежним толкованием тезиса секуляризации, если не с самим тезисом.
5
Лишь в 1997 г. М. Г. Талалаем была поставлена точка в давнем споре об Альгаротти (Франческо Альгаротти. Русские путешествия / Перевод с итальянского, предисловие и примечания М. Г. Талалая // Невский архив. Историко-краеведческий сборник. Вып. III. СПб., 1997). Исследователь убедительно доказал, что цитированная и переиначенная фраза итальянца стала известна поэту по-французски (Там же. С. 235). Благодарю за ценные указания по этой теме Г. Ю. Стернина и М. Г. Талалая.
6
Слова «окно» и «икона» восходят к единому корню греческого «эйкон»: ср. — греч. éixóva, греч. éixèu (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 2007. Т. 2. С. 125. Библиографию об этимологии этих слов см.: Там же. Т. 3. С. 128).
7
В качестве псевдокурьеза, выдающего особую сакральность для русских понятия окна как всякого проема-в-преграде, приведем происшествие 24 декабря 1664 г., описанное Николаасом Витсеном — голландским путешественником, побывавшим в России в 1664–1665 гг. Он свидетельствует, в череде прочих суеверий русских: «В комнатах обычно имеются окошки, через которые мы ночью часто мочились; как-то через окно один из английского посольства справил свою нужду. Русские узнали об этом, а он сбежал; если бы его поймали, то зарубили бы. Это заставило нас остерегаться» (Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник. СПб., 1996. С. 65). См. также ст. Л. Н. Виноградовой и Е. Е. Левкиевской в изд: Славянские древности. Т. 3. М., 2004. С. 534–539.
В том, сколь актуальна и поныне эта тема, убеждает, например, чтение современной русской прозы. Так, вдумчивая, волооко и зорко пишущая Ксения Голубович, с младогегельянским энтузиазмом строя антиномии и дихотомии, чреватые вожделенным синтезом, и строго выводя итог эмпатической пары «Россия — Сербия», звучащий приговором все еще импотентному панславизму, особо отмечает перегруженную славянскую семантику «проема-в-преграде»: «„В Сербии очень важны входы, — говорю я. Никогда не видела такого внимания ко входу. Не просто к дверям, а именно ко входу в них“. — Ирина внимательно слушает. — „Да, мне нравится вход. А что важно в России?“ — Я говорю с уверенностью: „Окна…“ — и, подождав, пока не встанут на место нужные слова, говорю: „Сербия хочет войти, Россия — выйти“. Я вспоминаю, что то место, через которое проходили сербы, прежде чем прийти на Балканы, они все так же мифологическим нутряным образом называют „врата народа“. — „Да, это совсем другое“, — соглашается Ирина. И — одно и то же, — думаю я, — потому что — всегда на пороге» (Голубович К. Сербские притчи. Путешествие в 11 книгах. М., 2003. С. 172). Не худо было бы вспомнить и о том, что во многих славянских культурах через окно и вперед головой выносят самоубийц, скоморохов и иных проклятых людей. И их же хоронят головой на восток.
Отметим, что именно с пушкинских времен в культуре России окончательно утвердилась антиномия «окно в Европу» versus «окно из Европы в Русь». Она имеет в виду противопоставление «смертоносного, чуждого» — «живому, своему». В «Медном всаднике» злая стихия внешнего, чужого, западноевропейского мира (стало быть, города имени императора Петра I) означена как движение извне внутрь: «…сердито бился дождь в окно». Образный вектор этот дублирован и не раз преумножен далее: «…и он желал / Чтоб ветер выл не так уныло / И чтобы дождь в окно стучал / Не так сердито…». И еще, потом: «Осада! Приступ! злые волны, / Как воры, лезут в окна». Угомонившаяся злая и враждебная стихия меняет гнев на милость через милостыню, и Евгений «питался / В окошко поданным куском»; но семантика движения извне внутрь константна, и герой оказывается теперь на улице, заглядывая внутрь, т. е. находясь по другую сторону окна-демаркации. Это амбивалентное и инверсированное «окно в Европу», точнее — «окно в Россию из Европы» находит свое дальнейшее развитие в письменной культуре.
Важно и традиционное фольклорное, с романтическим и, позже, символистским развитием, уподобление окна — глазу, окна — оку (читаем, например, у Даля: «дверь добра с ушами, а хоромина с очами» [Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 664]). Традиционно амбивалентный и, стало быть, сдвоенный мотив в гоголевской огласовке троится на окно-око-смерть (вспомним хотя бы приказ Вия, после которого и воспоследовала гибель Хомы: «Поднимите мне веки, не вижу!»). Троица «окно-глаз-смерть» особенно активно работает в поэтических текстах символистов с начала XX в. Преизбыток их открытых и запертых окон задают круг смыслов от «акоммуникативности личности и мира» у ранних символистов до «общения душ» — у поздних (Ханзен-Леве А. Русский символизм. СПб., 1999. С. 102). Далее макабарное окно уходит работать в XX столетие. Б. Пастернак (из «Марбурга»): «Ведь ночи играть садятся в шахматы / Со мной на лунном паркетном полу, / Акацией пахнет, и окна распахнуты, / И страсть, как свидетель, седеет в углу». Или: «Как часто у окна нашептывал мне старый: „Выкинься“»; или: «А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно — что жилы отворить»; того пуще: «И опять кольнут доныне / Неотпущенной виной, / И окно по крестовине / Сдавит голод дровяной»; про знаменитую «фортку» с не менее известным «тысячелетьем» писать попусту. А. Ахматова «окном» как частным случаем «проема-в-преграде» решает антиномию «угроза — смерть» («Все как раньше: в окна столовой / Бьется мелкий метельный снег…»; «Тихий дом мой пуст и неприветлив, / Он на лес глядит одним окном, / В нем кого-то вынули из петли / И бранили мертвого потом») и прямо сопрягает «окно» с Петром: «Мне не надо ожиданий / У постылого окна <…> Над Невою темноводной, / Под улыбкою холодной / Императора Петра»; «окно» же решает трагедию «Приговора»: «А не то… Горячий шелест лета, / Словно праздник за моим окном. / Я давно предчувствовала этот / Светлый день и опустелый дом»; то же повторится в «Распятии»: «И ту, что едва до окна довели, / И ту, что родимой не топчет земли…»
Развитие темы «окна в Европу» очевидно и в прозе — например в прозе XX в. Довольно припомнить хотя бы «Епифанские шлюзы» А. Платонова, где «окно» из единительной метафоры превращается в эмблему разъединения, «смотрение в окно», и, стало быть, пересечение границы чревато новью, но и смертью, будучи эквивалентом мифологической реки нижнего мира (Топоров В. Река // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 374–376).
8
По сути, то же происходит в отечественном театре, ведь «театр привел на сцену нового героя, теперь здесь действовал человек, а не его схема, от которой отделялись чувства, изображаемые аллегориями. Человек приобрел тело и душу, внешний облик и чувства, и имел право ими распоряжаться <…> Он стал равным самому себе» (Софронова Л. А. Российский феатрон: московский любительский театр XVIII в. М., 2007. С. 15), в отличие от прежней «неличи»: «Неличь ж. (от лицо) что невзрачно, неказисто, некрасиво, чего нельзя показать лицом. Неличь такая — товар его, что и глядеть неначто. Кляченка неличь, а неистомчивая! Нелицеприемный, нелицеприимный, — приимчивый, нелицеприятный, безпристрастный, правдивый, праведный; чуждый пристрастия, по уважению к лицу; правосудный, правосудливый» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 522). Равный, в потенции, равный самому себе человек и потребовал искусства «лиценачертания» (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 460).
9
См. пролегомены к разработке науки о «чуждости» («ксенологии»?) по-русски: Бубер М. Я и Ты. М., 1993; Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «чужом» // Логос. 1994. № 6; Недорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию (Материалы лекционных курсов 1992–1994 гг.). М., 1995; Делёз Ж Мишель Турнье и мир без Другого // Комментарии. № 10. М.; СПб., 1996; Недорога В. Двойное время // Феноменология искусства. М., 1996; Шукуров P. M. Введение, или Предварительные замечания о чуждости в истории // Чужое: опыт преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. В разработке «ксенологии» (или «каллигаризма» все же, или «аллологии», наконец?) огромную роль сыграли два коллективных сборника: уже упомянутый труд «Чужое: опыт преодоления…» и альманах «Одиссей» (Образ «другого» в культуре // Одиссей. 1993. Человек в истории. М., 1994).
10
В самом деле, для Средневековья ужасное, непонятное, страшное — неотъемлемая часть реальности, а ангелы и демоны — такая же действительность, как сосед и родственник. Новое время и Возрождение, в частности, проводят решительную границу между непознанным и непознаваемым, особенно рьяно устремляясь к «Я» и «сверх-Я». В результате, борясь с политическим, экономическим, социальным и многими другими отчуждениями за свои права, мы получаем отчуждение «личности» от собственного «Я».
11
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.) // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 414. 1977; Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической культуры // Там же. Вып. 464. 1978; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра I. К проблеме средневековой традиции в культуре барокко // Художественный язык Средневековья. М., 1982.
12
Экспансия исчисляемого времени представляет собой одну из составляющих утверждения счетной парадигмы как основы городской культуры, развивающейся в культуре Нового времени (Живов В. М. Время и его собственник в России на пути от царства к империи // Человек между Царством и Империей. М., 2003. С. 18; см. также: Вдовин Г. В. Две «обманки» 1737 г. Опыт интерпретации // Советское искусствознание’24. М., 1988).
13
На то же жалуется сельский батюшка в «Господах Головлевых» М. Салтыкова-Щедрина: «Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против ведра — наука. Прежде, бывало, попросту: придут да молебен отслужат — и даст бог. Ведро нужно — ведро господь пошлет; дождя нужно — и дождя у бога не занимать стать. Всего у бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить — словно вот отрезало; все пошло безо времени. Сеять нужно — засуха, косить нужно — дождик!» Жизнь «безо времени» — бытье в ином континууме, в иных хронопринципах.
14
Композиция картины организована таким образом, что лицо старика с текстом под ним, если холст перевернуть вверх ногами, превращается в череп, под которым находим продолжение стиха. Под стариком читаем: «Добр бех измлада и румян як шипок дозрелий. // И твои очи сладко тогда на мя зрели. // Ныне желт, худ и сух, як лист пред зимою: // Лихость мою точию крию бородою. // Еще же ныне как ни есть, но сладко ты на мя зрети: // Да и седин ради мусишь мя почтиты: // Что впредь со мною будет ежели не знаешь: // Обрат стремглав образ тотчас угадаешь». Под черепом: «О, теперь, як говорят, ни кожи ни рожи // Сам уже на кого похожий // Бя як не знаю ты мне образец наличный // Твой вид вскоре имать быть ничем неразличный. // Кто любит тя днесь той сам огидит тобою, // Кто чтит утро, череп твой попрет ногою».
15
Заметим, что и в театре той эпохи «четкого различения реквизита и декорации <…> еще не наступило» (Софронова Л. А. Российский феатрон… С. 29). О дефинициях между декорациями и реквизитом см.: Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Драма. М., 1968. С. 210; Лотман Ю. М. Семиотика сцены // Ю. М. Лотман об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления. СПб., 1998. С. 595.
16
Сборники символов и эмблем были чрезвычайно популярны на протяжении двух столетий истории отечественной культуры и, так или иначе, изучались непосредственно едва ли не всеми грамотными до начала второй половины XIX в., даже против их воли, будучи тотальным общим лексиконом. См., например, у И. С. Тургенева в «Дворянском гнезде» значимые детали биографии героя: «После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: „Куда? Сиди смирно“. По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием „Символы и эмблемы“. В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием „Шафран и радуга“, относилось толкование: „Действие сего есть большее“; против другого, изображавшего „Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту“, стояла надпись: „Тебе все они суть известны“. „Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка“ означали: „Мало-помалу“. Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголке с своими „Эмблемами“ — сидит… сидит; в низкой комнате пахнет гораниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка».
Обратим внимание на то, как Тургенев сам создает эмблематический натюрморт с goranium — будущей всероссийской геранью, от хлопотливых голландцев еще и знаком домовитости, — с настенными часами, символизирующими скоротечность земного времени, с мышью, исподволь подтачивающей все мнимо незыблемое, со скучным сверчком, неутомимым певцом «суеты сует», с едва горящей свечой, работающей здесь в двух смыслах — и как эмблема знания-просвещения, и как знак любви, — и наконец, с прямо названными парками, «тремя старыми девами», сучащими нити судеб и плетущими их в единый покров бытия. Закономерно, что созданная писателем назидательная картинка завершается короткой фразой — эмблематическим девизом: «Горе сердцу, не любившему смолоду!», предвосхищающей и судьбу Лаврецкого, и финал всего «Дворянского гнезда».
17
Заметим, кстати, что для русского человека новостью было даже не обретение часами минутной стрелки, т. е. не сама возможность делить час на более мелкие отрезки, а еще более то, что подвижные стрелки вращаются вокруг неподвижного циферблата. Все тот же Николаас Витсен с удивлением писал: «Часов у них мало, а где таковые имеются, там вращается циферблат, а стрелка стоит неподвижно; она направлена вверх, показывая на цифру вращающегося циферблата». Символика такого построения часового механизма вполне очевидна: устремленная к «ropel» единственная стрелка соотнесена тем самым с абсолютом, а движущийся вокруг циферблат — эмблема земного времени как всего лишь одного из предикатов вечности. Нетрудно увидеть и близость таких часов с неподвижной стрелкой с солнечными часами, где роль стрелки как вектора к абсолюту исполнял сам обелиск.
18
Муратов П. Образы Италии. Т. 2. М., 1912. С. 66–67.
19
По точному замечанию М. М. Аленова, «Собрание персон на раннепетровских портретах выглядит так, как если бы им было сообщено известие, что они из небожителей пожалованы в госслужащие, или, проще говоря, что они удостоены портретного увековечивания своей персоны не за подвиг спасения души, а, так сказать, „за заслуги перед отечеством“. Сохраняя иератическую статику „небожителей“, они преисполнены какого-то горестного недоумения невинно приговоренных к какой-то неведомой им славе. По мере того как сияние и благо этой земной славы становились в жизни и в портретной атрибутике более определенными, оттаивала, исчезала эта анестезирующая позу и мимику статика, соответственно живопись обретала подвижность — пространственную, фактурную и колористическую вибрацию» (Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX в. М., 2000. С. 48).
20
Софронова Л. А. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 289.
21
Невозможно, конечно же, рассмотреть при первом приближении весь ход процесса «гоминизации» («заслуги лица») во всей его глубине по бескрайним пространствам России, по всей широте многомиллионной Руси. Но, не создав первой модели, мы не можем обратиться к рождению и утверждению будущей «личности» во всех классах, слоях, социальных группах, хотя изначально ясно, что процесс этот шел среди крестьянства иначе, нежели среди купечества; в «третьем слое» — не так, как у властьимущих; у провинциального дворянства — не так, как в «столицах»… Мы вынужденно строим нашу модель по общественной «элите», по культурному «авангарду», лишь иногда предполагая ход процесса в иных слоях, источники к изучению которых покуда менее известны.
22
«Русским рукописям до XVI в. не было известно деление слов. Точки ставились в интервалах между нерасчлененными отрезками текста <…> В XV в. появляется запятая, сначала равнозначная точке», — констатирует в своей классической работе В. Ф. Иванова (Иванова В. Ф. История и принципы русской пунктуации. Л., 1962. С. 9). «Полагают, что и точка с запятой (вернее, точка над запятой) появилась в это время. Оба знака заимствуются из греческого письма через посредство южнославянского [запятая у греков была уже в IX в. — Вд.]. Сведения о новых знаках проникали медленно, и во многих рукописях XV и даже XVI вв., кроме точек, ничего нет <…> Знаки препинания ставились иногда даже чисто случайно, по причинам внешнего порядка: так, прерывая работу, писец мог поставить точку в самом неожиданном месте, иногда даже в середине слова» (Там же), подобно шву дневной работы в стенописи, добавим мы от себя.
23
Заметим, что проблема строчной-прописной в русском языке по-разному, но разрешается в таких произведениях крайнего индивидуализма русской музы и ее вольнонаемных, как ода «Бог» Г. Р. Державина, где каждая строка начинается с «Я» и потому с заглавной; и как поэма В. В. Маяковского «Я», где оное личное местоимение — заглавие, и оттого нет вопроса о прописной-строчной.
24
Ведь немыслимы друг без друга заглавная буква начала предложения и его концевой знак. «…Прописная буква как знак, исторически связанный с красной строкой, является в настоящее время вспомогательным знаком точки, ставящимся не в конце отделяемого члена, а в его начале» (Щерба Л. В. Теория русского письма. Л., 1983. С. 150). Учитывая давно ставшие привычными спекуляции о прописном русском «я» и строчном английском «I», важно иметь в виду подлинную причину британского обыкновения: «Написание I с прописной буквы принято с первых печатных изданий или с памятников конца среднеанглийского периода. В среднеанглийский период личное местоимение i часто для ясности передавалось через j, a j по своему начертанию в XV в. почти совпадало с I. Эту форму усвоили печатники, и она сохранилась» (Бруннер К. История английского языка. М., 1956. Т. 2. С. 102). Благодарю за консультации по проблеме личных местоимений в романо-германских языках М. Л. Чередниченко.
25
«…вводится понятие персоны — так именуется роль» (Софронова Л. А. Российский феатрон… С. 33–34).
26
Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль мышления и стиль жизни. М., 1978. С. 54. Парадокс «возможности накладывать отпечаток на всеобщее» и «полное соотнесение с этим всеобщим» сказывается на многих сторонах русской действительности долгое время. Красноречивейшая иллюстрация — двойное значение слова «фамилия» (как родовое имя и как собственно семейство, этим родовым именем связанное) в русском языке едва ли не до конца XIX в. Соль распространеннейшего анекдота эпохи, передаваемого нами по П. А. Вяземскому, — именно в «персональной» дихотомии «Я» и «мы»: «В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру, в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: „Позвольте спросить, ваша фамилия?“ — „Осталась в деревне, ваше величество, — отвечает он, — но, если прикажете, сейчас пошлю за нею“».
Вообще же, отметим, что начало процессу обретения неизменной, по наследству передающейся фамилии, а не прозванию от имени отца, поскольку имя отца стало отчеством (прежде это привилегия аристократа величаться — вичем, что суть дар государев), положено в XVIII в. Тот же процесс — обретение фамилии социальными низами, окончательно стимулированный реформой 1861 г., однако еще во второй половине XX в. в российских деревнях различали «уличные» и «личные» фамилии. Параллельно идет и становление «Вы» как нормы обращения к другому.
«Параллельно» рождается, например, и такой мебельный жанр, как стул — некое среднее между троном для государя и лавкой для служащих, равнодействующая между единственным царским «Я» и безгласным в глазах государева величия коллективным боярским «мы», представляющим «мы» мира безбрежной Руси, где каждый из будто бы немотствующих бояр на своем месте станет «Я» и обретет трон, поместивши иных «мы» на лавки. Стало быть, стул — еще один знак непростого пути обличения, общеиндоевропейской и общеевропейской дорог от «прямохождения» к «прямосидению». И если на «прямохождение» ушло 15 000–20 000 лет, то на «прямосидение» — чуть менее 2000.
Обретение спинки — завоевание Нового времени, лукавая победа прямой спины Возрождения над гибким позвоночником Средневековья, виктория, чреватая сутулостью романтизма и постромантизма. Случайно ли раннеренессансная мебель Италии, немецкие стулья от времени Лютера и далее, русские «отдельные мебля» петровской эпохи, чешские sidadla середины — второй половины XIX в., бразильские кресла первой половины XX столетия настойчиво громоздят прямоструганные спинки, спорящие не то с лестницей Иакова, не то с моделью Ламарка, не то со схемой эволюции по Дарвину?.. Случайно ли начала портрета как жанра, среди прочих условий репрезентации предполагающего «прямостояние» или «прямосидение» как виды предстояния, современны стулу как виду декоративно-прикладного искусства? Случайно ли безоговорочная победа Новейшего времени и эпохи постромантизма материализована в тишайшем явлении не где-нибудь, а именно в Вене — столице самой обширной и самой надуманной европейской империи — скромного столяра М. Тонета, снабдившего с благословления не абы кого, а Меттерниха, стульями из гнутого бука весь атлантический мир, купивший к началу Первой мировой войны почти семьдесят миллионов «венских стульев»?..
Случайно ли всякая революция и любой переворот начинаются с обязательного сидения революционеров на корточках, на земле, на мешках, на чем угодно, кроме стульев (стул — эмблема соглашательства «власти» и «народа», государства, воплощенного в «Я» власть предержащего и послушно «сидящего» под десницей «населения»), а заканчиваются неотменным низвержением стоящих и конных как дважды стоящих статуй? Случайно ли лучшая революционная и любовная поэма до сих пор — «Флейта-позвоночник» (1915) В. В. Маяковского, поэма об отказе от стула и ложа вплоть до коленопреклонения (Хребет — «Память! // Собери у мозга в зале // любимых неисчерпаемые очереди. // Смех из глаз в глаза лей. // Былыми свадьбами ночь ряди. // Из тела в тело веселье лейте. // Пусть не забудется ночь никем. // Я сегодня буду играть на флейте. //На собственном позвоночнике»; Ложе — «Если вдруг подкрасться к двери спаленной, // перекрестить над вами стёганье одеялово, // знаю — // запахнет шерстью паленной, // и серой издымится мясо дьявола. // А я вместо этого до утра раннего // в ужасе, что тебя любить увели, // метался // и крики в строчки выгранивал, // уже наполовину сумасшедший ювелир.»; Колени — «В муке // перед той, которую отдал, // коленопреклоненный выник. // Король Альберт, // все города отдавший, // рядом со мной задаренный именинник»)?
27
Парадоксальная, но лишь на первый взгляд, параллель самоопределению «Я» до состояния отдельной персоны, параллель обличению русской речи, ее пунктуации и синтаксиса — давняя математическая дискуссия о том, есть ли единица («1») число, — дискуссия, неотделимая от «изобретения нуля», состоявшегося, судя по всему, в математике Двуречья. Еще у Евклида, начавшего отличать науку о числе от логистики, термин «артимос», который мы все норовим перевести как «число», в действительности означал только натуральное число — иначе говоря, согласно прекрасному переводу на русский Д. Д. Мордухай-Болтовского, «количество, составленное из единиц» (Евклид. Начала. VII, 2). Отсюда и непонятная нам уверенность «теоремы Евклида» в том, что простых чисел бесконечно много (Евклид. Начала. IX, 20), видимо, дискутирующая с пифагорейским энтузиазмом сакральной нумерологии («все есть число»), полагающей «точку — помещенной единицей». Опуская и сторико-математические выкладки, отметим, что еще Симону Стевину в конце XVI столетия, т. е. на исходе эпохи Возрождения в Западной и Северной Европе, и в «Арифметике», и в революционной «Десятой» (La Disme) приходилось доказывать, что единица («1») суть число (Stevin S. Coll. Works. Т. 1–2. Milano, 1955–1958; Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. М., 1964. С. 35, 52, 73, 109, 114, 165; Dijksterhuis E. J. Simon Stevin. S’Gravenhage, 1943; Van der Waerden B. L. Mathematics Annalen. № 120. 1948. S. 126–152, 675–699; Евклид. Начала / Пер. и ком. Д. Д. Мордухай-Болтовского: Кн. I–VI. М.;Л., 1948; Кн. VII–X. М.;Л., 1949; Кн. XI–XV. М.;Л., 1950). «Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа <…> Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум», — приметил столетие спустя наблюдательный П. А. Вяземский, подводя промежуточные итоги начавшегося на рубеже XVII–XVIII вв. процесса «вочеловечивания». Стоит ли продолжать нашу утомительную спекуляцию до «бароковой» поэзии В. В. Маяковского, бившегося между «сверх-Я» эпохи постромантизма и «коллективизмом» строящегося социализма («Единица — вздор, единица — ноль / Один — даже если очень важный — не подымет простое пятивершковое бревно»), бившегося ни абы где, а в программной поэме «Владимир Ильич Ленин»? Удивляться ли, увидев вдруг, что первая четверть XVIII в. и та же кварта XX столетия, общо говоря, ставили своих насельников в одну и ту же позитуру — между положением человека, «уложенного в основание пирамиды», и требованием власти проявлять изобретательность, инициативу, предприимчивость и пр., пр.
28
И еще раз настойчиво отметим, что и в театре той эпохи «четкого различения реквизита и декорации <…> еще не наступило» (Софронова Л. А. Российский феатрон… С. 29), т. е., на языке философии эпохи, субъект, объект и инъект не разделены.
29
Этот непростой культурный процесс всюду проходит небесконфликтно. Одна из возможных аналогий, как ни странно, — Япония первой половины XX в. (см. подробнее: Мещеряков А. Н. Телесный комплекс неполноценности японцев и его преодоление. [20-е -30-е гг. XX в.] // Вопросы философии. 2009. № 1).
30
Чтение списков примет сбежавших — монахов, солдат, крестьян — убеждает в том, что существенными характеристиками, с точки зрения властей, разыскивающих своих «утекателей», являются приметы лица, особенности телосложения и отличия речи, т. е. звук. Собранный некогда одним из самых «барочных» наших писателей, Н. С. Лесковым, материал — тому свидетельство: «Петропавловского глуховского монастыря архимандрит Никифор доношением представил, что 749 г. июля 8-го дня, во время утренни, иеродиакон Гавриил Васильев, росту среднего, лица тараканковатого, носа горбатого, продолговатого, волосов светло-русых, бородки рудой и небольшой, действует и спевает тенора; ходы спешной, речи пространной, очей серых, лет ему сроду как бы сорок, — с оного Петропавловского глуховского монастыря бежал». Или другой беглец: «Андрей Григорьев, на обличье смагловат, побит воспою, волосов скулих, мови грубой, малохрипливой, лет ему 50». Из Черниговского Троицкого монастыря «утек Иннокентий Шабулявский — в плечах толст, сам собою и руками тегуст, носа острого, щедровит (ряб), бороды не широкой, козлиной, спевает и читает сипко тенором». Что же до женщин, то вот некая «Анна, росту среднего, очей карих, мало насупленных, лица смаглеватого ямоватого, грибоватого, опухлого, носа керпатого, на правую ногу хрома, глуповата, мови горкавой», а спутник ее — «росту великого, дебел, волосом сед, борода впроседь, лицом избела красноват, долгонос, говорит сиповато». Отметим, что в состав лекарств тогда входили звуки. И если смеховая культура второй половины XVII — первой половины XVIII в. приводит рецепты, рекомендующие «два золотника медвежьего рыка», «утиное кричание, гусиное гоготание по четверти золотника» (Ранняя русская драматургия [XVII — первая половина XVIII в.]: Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975. С. 473), то ясно, что она описывает обыкновение и традицию. Например, П. Г. Богатырев без удивления отмечал, что «в рукописи „Лечебник на иноземцев“ мерами веса измеряется звук», будь то все тот же «медвежий рык» или «курочья высокого гласу» (Богатырев П. Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре // Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 458). Тембр голосов выстраивал возрастную и социальную иерархию, в чем нетрудно убедиться, перечитывая гоголевского «Вия», очевидно повествующего о событиях середины XVIII — начала XIX в.: «Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом <…> Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже <…> По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам <…> Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу…».
31
Кирсанова P. M. Костюм в русской художественной культуре. М., 1995.
32
Отметим, что в это же время постепенно исчезает из обихода «сокровенное», оно же — «тайное», имя (Сапрунова И. А. Н. П. Шереметев. Детские годы (1751–1769). Материалы к жизнеописанию // Граф Николай Петрович Шереметев. Личность. Деятельность. Судьба. Этюды к монографии. М., 2001. С. 13; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Сколько христианских имен могло быть у князя Рюриковича? // Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре. М., 2004).
33
Еще у Достоевского, т. е. в начале второй половины XIX в., без удивления прочтем что-нибудь в таком роде: «В комнату вошел старик сорока пяти лет».
34
Не лишним, впрочем, было бы напомнить даже не то, что по сию пору в Таиланде запрещено наступать на банкноты и монеты, а действующее законодательство Великобритании, которое теоретически, на бумаге, и поныне считает изменой и одинаково карает как интимную связь с королевской супругой (или супругом), так и переворачивание марки с монаршим изображением вверх клейкой стороной.
35
К концу XIX в. ситуация отчасти поменяется. Если ранее государев портрет требовал предстояния и предписывал его неукоснительно, то «либеральное» XIX столетие разрешает «под-сидение» (если позволить себе сомнительный неологизм). Теперь возможно находиться под портретом и даже сидеть спиной к нему (положение, недопустимое в павловское или екатерининское царствование), что понимается как пребывание «под защитой», «во власти». Примечательна, к примеру, вспоминаемая В. А. Соллогубом сцена: «В скромной гостиной висела на стене большая литография с изображением императора и надписью по-французски „Aleksandre I. Autocrate de toutes les Russies“. Когда в день, о котором я рассказываю, государь прибыл, матушка села на диванчик под портретом, государь занял кресло подле нее и разговор начался». Симптоматичен и сам разговор, состоявшийся в этой гостиной: «…я <…> спросил, что значит „Autocrate“<…> Государь улыбнулся и промолвил: „Видно, что он приехал из Парижа. Там этому слову его не научили“» (Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 156). В быту же пребывание под чьим-либо портретом имело тот же смысл (из наиболее ярких примеров приведем диалог героев тургеневского «Фауста» с Верой Николаевной: «…я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери? — „Ваше сравнение очень верно, — возразила она, — я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла“» (Тургенев К. С. Собр. соч. в 12 тт. Т. 6. С. 182).
36
Выписывая легкое словцо «заимствование», обратим внимание на то, что заимствование тогда могло быть и буквальным. Известны, к примеру, случаи непосредственного одалживания театральной «воинской одежи» из театра Артемия Фиршта для чина погребения боярина Головина (Николаев С. И. Рыцарь на похоронах Федора Головина [Из церемониальной эстетики Петровской эпохи] // История культуры и поэтика. М., 1994. С. 83). Нет оснований утверждать, что одежда была одолжена только для рыцаря, сопровождавшего похороны. Быть может, какие-то детали туалета были «заняты» и для покойного. Хотя, конечно, «похороны, на которых красовался рыцарь в этом театральном облачении, стали подлинной pompae f unebri», а сама «театрализация похорон не вызвала недоумения или неодобрения — театральность активно распространялась во всех сферах жизни» (Софронова Л. А. Культура сквозь призму поэтики. С. 291).
37
Подробнее см.: Вдовин Г. В. Персона — индивидуальность — личность. Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М., 2005.
38
Сокрушаясь особенностями ремесла историка искусства, исследователя, вечно рвущегося между «своим» и «цитированным» словом, где «твое» должно бы быть кратко, скромно и емко, а «чужое» — объемно, многозначно и убедительно, воспроизведу с восторгом точнехонькое, но, увы, и пространнейшее наблюдение А. И. Герцена из IV тома «Былого и дум», толкующего столетие с лишним спустя начала русской масляной живописи как конфликтную несходимость языков и менталитетов запада и востока Европы: «Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым <…> Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: „Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?“ Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное. Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, — совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота? <…> Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения — ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления; молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык, они не переводили на русское, а перекладывали целиком да еще, для большей легкости, оставляя все латинские слова in crudo, давая им православные окончания и семь русских падежей. Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это „птичьим языком“. Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: „Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте“. Замечательно, что тут русские слова <…> звучат иностраннее латинских <…> Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к „гемют“ или к „трагическому в сердце“».
И как поколение наших прапредков — ровесников Александра Ивановича — маялось в героическом опыте постижения кантовской, гегелевской и шлегелевской премудростей, трудно дававшихся прогульщикам «приготовительной группы» аристотеликов, пропустившим «первый» класс схоластики и вдобавок принесшим спасительную записку от родителей на проспанный декартовский урок, так наши предки надорвались в чтении и толковании Маркса с марксистами и марксоидами, а ровесники преют с сосюрами, кермюхелями и деридами.
39
«Я связь миров повсюду сущих, // Я крайняя степень вещества, // Я средоточие живущих, // Черта начальна божества: // Я телом в прахе истлеваю, // Умом громам повелеваю, // Я царь — я раб — я червь — я бог! // Но, будучи я столь чудесен, // Отколе происшел? — безвестен; // А сам собой я быть не мог».
40
Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 276.
41
Sydenham Th. Medicine pratique. P., 1784. Т. 1. P. 88
42
Возможным и внятным объяснением было бы сближение этого портрета с близким по технике, размерам, стилистике и датировке портретом Петра Петровича («Петечки-шишечки», сына Петра I и Екатерины I) в виде купидона (1717. ГТГ), переводящим портрет Екатерины в жанр портрета кормилицы, однако сегодня ни доказать, ни опровергнуть это сближение пока невозможно.
43
Еще в середине XIX в. стародавние дамы демонстрировали подобные портреты, нимало не смущаясь. Читаем у И. С. Тургенева в «Нови»: «Из крохотного „бонердюжура“, — так называлось старинное бюро на маленьких кривых ножках с подъемной круглой крышей, которая входила в спинку бюро, — она достала миниатюрную акварель в бронзовой овальной рамке, представлявшую совершенно голенького четырехлетнего младенца с колчаном за плечами и голубой ленточкой через грудку, пробующего концом пальчика острие стрелы. Младенец был очень курчав, немного кос и улыбался. Фимушка показала акварель гостям.
— Это была — я… — промолвила она.
— Вы?
— Да, я. В юности. К моему батюшке покойному ходил живописец-француз, отличный живописец! Так вот он меня написал ко дню батюшкиных именин. И какой хороший был француз! Он и после к нам езжал. Войдет, бывало, шаркнет ножкой, потом дрыгнет ею, дрыгнет и ручку тебе поцелует, а уходя — свои собственные пальчики поцелует, ей-ей! И направо-то он поклонится, и налево, и назад, и вперед! Очень хороший был француз!
Гости похвалили его работу; Паклин даже нашел, что есть еще какое-то сходство».
Помимо того, что портрет выполнен «жантильненьким» французским живописцем, чья социохудожественная функция все продолжает востребоваться на просторах необъятной России столетие с лишним спустя от «дела Петрова», нетрудно догадаться, что «голенький четырехлетний младенец с колчаном за плечами и голубой ленточкой через грудку, пробующий концом пальчика острие стрелы» — андрогинный по сути своей Купидон. Согласно многим позициям общеизвестного симболяриума («Избранные емвлемы и символы на Российском, Латинском, Французском, Немецком и Английском языках объясненные, прежде в Амстердаме, а потом в граде Св. Петра 1788 года, с приумножением изданные Статским Советником Нестором Максимовичем-Амбодиком» (СПб., 1811), эта композиция изъясняла и изъясняет внимчивому читателю: «Едина мне довлеет» (№ 217), «Восходит или ниспадает» (№ 233)
44
Эпоха, смело окидывавшая «умозраком» мироздание в его целостности, не чураясь ни «высокого», ни «низкого»; эпоха, вслед за Ренессансом продолжившая реабилитацию тела и телесности; эпоха, открывающая благодарному человечеству ночь как время, не исключающее благодати и благостыни, так же охотно «нюирует», как и тщательно организует традицию парадных спален. Читаем у Берхгольца: «После чего князь [Кантемир, князь Валашский. — Вд.] повел его высочество в свою спальню (обитую красным сукном), где княгиня, его супруга, лежала одетая, на парадной постели: она уже несколько времени чувствовала себя нездоровою и по возвращении царя из Вии (?) не была ни на одном празднестве». И далее: «Между тем его выc. пошел с княгинею в ее спальню, где она в первый визит герцога лежала на парадной постели. Комната эта, довольно чистая и устланная зелеными половиками, была открыта и ни на минуту не оставалась пустою, потому что гости постоянно входили и выходили» (Дневник Ф. В. Берхгольца. 1721–1725. М., 1902. Ч. 2. С. 171 С. 63, 69).
45
В старинной описи было записано: «…портрет гетмана напольно неконченной взятой из дворца без рам», т. е., скорее всего, работа не висела на стене, а просто стояла без рамы на полу.
46
Погребение Петра I задало модель русских похорон на триста лет. Именно его портреты «во успении» обусловили жанр, вплоть до похоронной фотографии, просуществовавший до 1980-х гг. Именно этот сценарий определил обыкновение печальных ритуалов. Именно знаменитое «Слово на погребение Всепресветлейшего Державнейшего Петра Великого, Императора и Самодержца Всероссийского, отца Отечества, проповеданное в царствующем Санктпетербурге, в церкви святых первоверховных апостол Петра и Павла, Святейшего Правительствующего Синода вице-президентом, преосвященнейшим Феофаном, Архиепископом Псковским и Нарвским, 1725, марта 8 дне» стало образцом макабарного дискурса. Не верится? Сравним феофановы слова с чеховскими, например.
Итак, первоисточник: «Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение! Виновник бесчисленных благополучии наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу, или паче, рождший и воспитавший прямый сын отечествия своего отец, которому по его достоинству добрии российстии сынове бессмертну быть желали, по летам же и состава крепости многодетно еще жить имущего вси надеялися, — противно и желанию и чаянию скончал жизнь и — о лютой нам язвы! — тогда жизнь скончал, когда по трудах, беспокойствах, печалех, бедствиях, по многих и многообразных смертех жить нечто начинал. Довольно же видим, коль прогневали мы тебе, о боже наш! И коль раздражили долготерпение твое! О недостойных и бедных нас! О грехов наших безмерия! Не видяй сего слеп есть, видяй же и не исповедуяй в жестокосердии своем окаменей есть. Но что нам умножать жалости и сердоболия, которыя утолять елико возможно подобает. Как же то и возможно! Понеже есть ли великия его таланты, действия и дела воспомянем, еще вящше утратою толикого добра нашего уязвимся и возрыдаем. Сей воистинну толь печальной траты разве бы летаргом некиим, некиим смертообразным сном забыть нам возможно. Кого бо мы, и какового, и коликого лишилися? Се оный твой, Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе могл явитися никто в мире не надеялся, а о явльшемся весь мир удивился…» (цит. по: Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии. СПб., 2006. С. 62–63).
А. П. Чехов: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма <…> Поедем, душа! Разведи там, на могиле, какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо получишь! <…> Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал: „Верить ли глазам и слуху! Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли? Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который <…> этот самый обратился теперь в прах…“» (Чехов А. П. Оратор // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Сочинения. Т. 5 [1886]. М., 1984. С. 431–432). Помимо многих родимых пятен петровского дела здесь налицо и укорененность в обществе петровской табели о рангах («коллежский асессор»!), и благословленный Петром волапюк романских, германских, славянских и пр. языковых слагаемых («мантифолия поцицеронистей»!!), и сама преизобильная риторика высказывания («Что?», «О?», «Как?», «Увы!», «Верить?», «Кто?», «Не…», «Тот?!» и далее, далее, далее!!!).
47
Софронова М. Н. Портретные изображения святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири // Тальцы. № 1 (28). 2006.
48
Дневник Ф. В. Берхгольца… Ч. 3 (1723). С. 171.
49
См., например, фототчеты с похорон А. А. Ахматовой или Б. Л. Пастернака.
50
Татищев В. Н. Духовная моему сыну. СПб., 1896. С. 28.
51
Шеллинг Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф. В. Й. Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1987. С. 185.
52
Не позволить ли нам, добрый читатель, характернейшую, но, увы, обширнейшею цитату из гончаровского «Обломова», романа далеко за середину XIX столетия, романа на самом деле не о «русской лени», как привыкли мы думать, а о мучительном русском становлении «личности» из «персоны» и «индивидуальности», длившемся и, кажется, еще длящемся процессе с главной его проблемой: «Видишь ли ты сам теперь, до чего доводил барина — а? — спросил с упреком Илья Ильич.
— Вижу, — прошептал смиренно Захар.
— Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это?
— Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно… — сказал Захар.
— Что? Что? — вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. — Что ты сказал?
Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту… Он молчал.
— Другие не хуже! — с ужасом повторил Илья Ильич. — Вот ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что „другой“!
Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо.
— Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь?..
— С глаз долой! — повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. — Я тебя видеть не могу. А! „другие“! Хорошо!
Захар с глубоким вздохом удалился к себе <…>
Обломов долго не мог успокоиться; он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому.
Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое другие и что он сам, в какой степени возможна и справедлива эта параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром; наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что „другой“, или так это сорвалось у него с языка, без участия головы. Все это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем „других“, и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка.
— Захар! — протяжно и торжественно кликнул он <…>
Захар отворил вполовину дверь, но войти не решался.
— Войди! — сказал Илья Ильич <…>
— Захар! — тихо, с достоинством произнес Илья Ильич.
Захар не отвечал; он, кажется, думал: „Ну, чего тебе? Другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою“, и перенес взгляд свой мимо барина, слева направо; там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью; сквозь нее дико, исподлобья смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик.
Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились.
Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз, под ноги: тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе.
— Захар! — с чувством повторил Илья Ильич <…>
— Что, каково тебе? — кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. — Ведь нехорошо? <…>
— Что ж, Илья Ильич, — начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона, — я ничего не сказал, окроме того, что, мол…
— Нет, ты погоди! — перебил Обломов. — Ты понимаешь ли, что ты сделал? На вот, поставь стакан на стол и отвечай!
Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина; он даже понурил немного голову, сознавая свою вину.
— Как же ты не ядовитый человек? — говорил Обломов.
Захар все молчал, только крупно мигнул раза три.
— Ты огорчил барина! — с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением.
Захар не знал, куда деваться от тоски <…>
— Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — почти плача сказал он.
— Чем? — повторил Обломов. — Да ты подумал ли, что такое другой?
Он остановился, продолжая глядеть на Захара.
— Сказать ли тебе, что это такое?
Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату.
— Другой — кого ты разумеешь — есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что этакому сделается? Ничего. Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру <…> Вот это так „другой“! А я, по-твоему, „другой“ — а?
Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал.
— Что такое другой? — продолжал Обломов. — Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет, он и не знает, что такое прислуга; послать некого — сам сбегает за чем нужно; и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет…
— Из немцев много этаких, — угрюмо сказал Захар.
— То-то же! А я? Как ты думаешь, я „другой“?
— Вы совсем другой! — жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. — Бог знает, что это напустило такое на вас…
— Я совсем другой — а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, как „другой“-то живет? „Другой“ работает без устали, бегает, суетится, — продолжал Обломов, — не поработает, так и не поест. „Другой“ кланяется, „другой“ просит, унижается… А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, „другой“ я — а?
— Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! — умолял Захар. — Ах ты, господи!
— Я „другой“! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу!
Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих „других“? Разве я могу все это делать и перенести?
Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча, над головой его. Он молчал.
— Захар! — повторил Илья Ильич.
— Чего изволите? — чуть слышно прошипел Захар.
— Дай еще квасу.
Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он, было, проворно пошел к себе.
— Нет, нет, ты постой! — заговорил Обломов. — Я спрашиваю тебя: как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе?
Захар не выдержал: слово „благодетельствует“ доконало его! Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему.
— Виноват, Илья Ильич, — начал он сипеть с раскаянием, — это я по глупости, право по глупости…
И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи.
— А я, — продолжал Обломов голосом оскорбленного и не оцененного по достоинству человека, — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше… а о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян; стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу как пень да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня господу богу на страшном суде, а молились бы да поминали меня добром. Неблагодарные! — с горьким упреком заключил Обломов.
Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать; сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского там-тама.
— Батюшка, Илья Ильич! — умолял он. — Полно вам! Что вы, господь с вами, такое несете! Ах ты, мать пресвятая богородица! Какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно…
— А ты, — продолжал, не слушая его, Обломов, — ты бы постыдился выговорить-то! Вот какую змею отогрел на груди!
— Змея! — произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. — Когда же я змею поминал? — говорил он среди рыданий. — Да я и во сне-то не вижу ее, поганую!
Оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждый и себя.
— Да как это язык поворотился у тебя? — продолжал Илья Ильич. — А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород, отсыпной хлеб, назначил жалованье! Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам! Мужики тебе в пояс; все тебе: Захар Трофимыч да Захар Трофимыч! А он все еще недоволен, в „другие“ пожаловал! Вот и награда! Славно барина честит!
Захар продолжал всхлипывать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах.
— Ну, теперь иди с богом! — сказал он примирительным тоном Захару. — Да постой, дай еще квасу! В горле совсем пересохло: сам бы догадался — слышишь, барин хрипит? До чего довел!
— Надеюсь, что ты понял свой проступок, — говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу, — и вперед не станешь сравнивать барина с другими. Чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина: расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнял? У себя же; для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу взаперти… Ну, да бог с тобой! Вон, три часа бьет! Два часа только до обеда, что успеешь сделать в два часа? — Ничего. А дела куча. Так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, а теперь прилягу немного: измучился совсем; ты опусти шторы да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали; может быть, я с часик и усну; а в половине пятого разбуди.
Захар начал закупоривать барина в кабинете; он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе.
— Чтоб тебе издохнуть, леший этакой! — ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. — Право, леший! Особый дом, огород, жалованье! — говорил Захар, понявший только последние слова.
— Мастер жалкие-то слова говорить: так по сердцу точно ножом и режет… Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну! — говорил он, с яростью ударяя по лежанке. — Жалованье! Как не приберешь, гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчевать! Чтоб тебе пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдет!
Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался…
— Два несчастья вдруг! — говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. — Прошу устоять!
Но в самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. „До бед, которыми грозит староста, еще далеко, — думал он, — до тех пор многое может перемениться: авось, дожди поправят хлеб; может быть, недоимки староста пополнит; бежавших мужиков `водворят на место жительства`, как он пишет“. „И куда это они ушли, эти мужики? — думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. — Поди, чай, ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же! В избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мере…“
„И что тревожиться? — думал он. — Скоро и план подоспеет — чего ж пугаться заранее? Эх, я…“
Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье; но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия! <…> Так он попеременно волновался и успокаивался, и наконец в этих примирительных и успокоительных словах авось, может быть и как-нибудь Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших, и в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий.
Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят поверхность вод; еще минута — и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.
— А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, — прошептал он. — Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не выдал — утро так и пропало!
Он задумался… „Что же это такое? А другой бы все это сделал? — мелькнуло у него в голове. — Другой, другой… Что же это такое другой?“
Он углубился в сравнение себя с „другим“. Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом.
Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма <…> другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…
„Ведь и я бы мог все это… — думалось ему, — ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же все это делось? И переехать что за штука? Стоит захотеть! `Другой` и халата никогда не надевает, — прибавилось еще к характеристике другого; — `другой`… — тут он зевнул… — почти не спит… `другой` тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не `другой`!“ — уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.
Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за другим, и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его вырабатывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.
А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будит спящие силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно. События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он; он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну; он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим.
Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою.
Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого?
— Это все… Захар! — прошептал он.
Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло пожаром стыда.
„Что, если б кто-нибудь слышал это?.. — думал он, цепенея от этой мысли. — Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому; да и не поверят; слава богу!“
Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара.
— Эк его там с квасу-то раздувает! — с сердцем ворчал Захар. „Отчего же это я такой? — почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло, — право?“
Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить, как следует, как живут „другие“, он вздохнул, закрыл глаза, и чрез несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.
— И я бы тоже… хотел… — говорил он, мигая с трудом, — что-нибудь такое… Разве природа уж так обидела меня… Да нет, слава богу… жаловаться нельзя… За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии.
— Видно, уж так судьба… Что ж мне тут делать?.. — едва шептал он, одолеваемый сном <…>
— Сейчас, сейчас, погоди… — и очнулся вполовину.
— Однако… любопытно бы знать… отчего я… такой?.. — сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. — Да, отчего?.. Должно быть… это… оттого… — силился выговорить он и не выговорил.
Так он и не додумался до причины; язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед за тем начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящего человека».
53
Соловьев B. C. Национальный вопрос в России // Соловьев B. C. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 592–593.
54
Схожая, своего рода «археологическая», идущая от сшибки глагольных форм коллективного и безличного средневекового «мы» с нововременным и чреватым возрожденческим «Я», — по сию пору характерная русская ошибка, свойственная «пониженной», «провинциальной» речи в неразличении глаголов «играть» и «играться». Вильгельм Фермор, о портрете которого речь пойдет далее, именно что уже играет, а в портрете мальчика, приписываемом Л. Каравакку, герой взаправду еще играется. Та же война — между винительным и родительным падежами. В. К. Кюхельбекер отмечал в дневнике за 1832: «Читаю „Военную историю походов россиян в XVIII столетии“. Век живи, век учись: так-то я узнал из приложенных к сей „Истории“ дипломатических актов, что во время Петра имена нарицательные, происходящие от глаголов действительных, требующих винительного падежа (напр., оставление), требовали винительного же падежа, а не родительного, с которыми ныне они употребляются (напр.: оставление город, взятие крепость, а не города, крепости). Это совершенно „соответствует тому, что и поныне существует в глаголах и отглагольных именах, управляющих другими падежами (управляю чем и управление чем, стремлюсь к чему и стремление к чему)“» (цит. по: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 86).
55
«Свойство — еже кто что имать особо», — бесстрастно фиксируют азбуковники XVII — начала XVIII в.
56
Вспомним хотя бы того же Н. А. Некрасова, где в «Похоронах» 1860 г. уже, наконец, сказано (едва ли не впервые для массовой культуры!): «застрелился чужой человек». Однако несколькими строфами ниже он называется «стрелком». Далее, чтобы не казалось, будто бы «стрелок» — от охотничьих увлечений покойного, а именно народное обозначение застрелившегося, огнестрельного самоубийцы, настойчиво повторяется: «Меж двумя хлебородными нивами, // Где прошел неширокий долок, // Под большими плакучими ивами // Упокоился бедный стрелок». Покойные мои дед и бабушка по материнской линии — A. M. Булыгин и Е. К. Булыгина — со всей многочисленною роднею деревни Пузырёвка и села Остёр Рославльского района Смоленской области, закончив по одному-два класса школы, еще в 1960–1970-е гг. пели некрасовские «Похороны» в полной редакции поэта, а не в версии Л. А. Руслановой. Впрочем, в их варианте были характерная вставка и примечательная «ослышка», ради которых и позволяю себе это примечание: «Ой, беда приключилася страшная! // Мы такой не знавали вовек: // Как у нас — эх! голова бесшабашная — // В пыль свалился чужой человек!». Мудрая необходимость «эх!» стала мне очевидна позднее, по прочтении оригинала. Ну как еще, кроме оного «эх!», интонационно выделить, что не «у нас» «голова бесшабашная», а у бедного застрелившегося? На разгадку «ослышки» — «застрелился» // «в пыль свалился», — ушло времени поболее. Ясно, впрочем, что еще во второй половине XX столетия для многих и очень многих «застрелиться» — невозможно; лучше — многозначительные эвфемизмы: «в пыль свалился» или, на худой конец, «наложил на себя руки». Так же уклончиво формулирует в «Господах Головлевых» М. Е. Салтыков-Щедрин устами П. В. Головлева: «Так ты говоришь, что Любинька сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо с целью подбодрить себя».
57
Похоже, что сама противоречивость оценок — вообще, характерное качество эпохи барокко. См., напр.: Либрович С. Ф. Император под запретом. СПб., 1912. С. 59–60. О предшественнице Елизаветы Петровны он пишет: «О личности Анны Леопольдовны сложились два разноречивых мнения: одни из современников считали ее очень умной, доброй, честолюбивой, презирающей притворство, снисходительной, великодушной, милой в обхождении с людьми. Другие, напротив, упрекали ее в надменности, тупости, скрытности, презрении к окружающим ее, утверждали, что она посредственного ума, капризная, вспыльчивая, нерешительная, ленивая».
Как и всякий живописный, женский портрет XVIII столетия «восходил», стремился быть близким к императрицыну. То же происходило и с портретом литературным. В противоречивости — его суть. Довольно сравнить взаимоисключающие мнения современников о Екатерине I, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екактерине II с описаниями матрон в отечественной литературе. Вот хотя бы Василиса Кашпоровна из второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. „Весьма с большим характером Василиса Капшоровна!“ — говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Капшоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькое именьице Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати душ по последней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку».
58
Сковорода Г. Собр. соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 161, 225,233, 375,440. В такой системе тропов не удивимся тому, что разум подобен зубам, и это-то острозубое остроумие призывает: «Мало читать, много жевать» (Там же. С. 234); восхищается: «Подлинно, Давид, белы зубы твои…» (Там же. С. 236); предостерегает: «Они приступают к наследию сему без вкусу и без зубов, жуют одну немудреную и горькую корку» (Там же. С. 374–375). Не удивимся в итоге и тому, что Истина имеет не только вкус, но и запах. Согласно автору, выражающему «молву мира» или мнение «простецов», только «носатые» (или «носачи») воспринимают Господа и Библию. И каждый человек может «нажить оный нос», если он не курнос. Курносые — уходящие с праведного пути. Отсюда, продолжает азартно философ, и запреты приносить жертвы в храме хромым, курносым, слепым. Им недоступен «сладчайший дух и благовоннейший дым повсеместнаго присутствия Божия». Курносые «не обоняют Христова благовония, не внемлют слову Божия». И вообще, истинный нос — это «нос Исаака» (Там же. С. 300, 229–230).
59
Небывалый рост цветообозначений начался в России еще в XVII в. По авторитетному мнению Н. Б. Бахилиной, «завершаются многие процессы в группе цветообозначений, например, процесс выработки абстрактных цветообозначений для основных цветов, перегруппировка и формирование современных соотношений в группах цветообозначений (например, в группе красного цвета), появление большого количества названий для смешанных цветов» (Бахтина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975. С. 49). По наблюдениям цитируемого автора, в памятниках X–XVI вв. встречается не многим более трех десятков цветообозначений, с XVII столетия количество их достигает сотни (Там же. С. 162), а в XVIII в. путем новообразований и через заимствования из романо-германской языковой группы отечественный цветоряд достигает максимума.
60
Ср. у того же Сумарокова нанизанные на двоеточия и точки с запятой всевозможные «приятные приятности», «прекрасные красоты», «преобидимые обиды», «очюнь, очюнь, подлинно говорю, что очюнь хорошо», «слатенька», «чистоприправный» и пр. в том же роде, которые встречаем «попремногу». Ср. с всегда точным и всегда праздным наблюдением Стивена Фрая в романе «Лжец», переводящим принадлежащее в славянстве «телесному верху» в свойственное англосаксонскому «корпусному низу», «кулинарное» — в «дефекационное», «барочное» — в «постромантическое»: «В грамматике здоровья сливки торопливо влекут нас к последней точке, овсянка же ставит двоеточие. — Понятно <…> А карри, я полагаю, инициирует тире» (Фрай С. Лжец. М., 2007. С. 258).
61
Сравним антроповские персонажи середины XVIII столетия с тургеневским портретом матери Базарова образца 1850-х гг.: «Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи; а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме „Алексиса, или Хижины в лесу“, писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, — а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном… Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!» Примечая безусловное опрощение типа и снижение его в социальной иерархии, подивимся главному — его исключительной живучести, благодаря которой мы можем лицезреть его и до сих пор.
62
Лебедев А. В. Тщанием и усердием. Примитив в России XVIII — середины XIX в. М., 1997. Там же — подробнейшая библиография вопроса.
63
А. П. Сумароков в оде «Государыне Императрице Елисавете Перьвой на день рождения 1755 года декабря 18 дни» проговаривает Елизаветино миротворчество как общее место: «Не ищешь ты войны кровавой // И подданных своих щадишь, // Довольствуясь своею славой, // Спокойства смертных не вредишь».
64
Опережая события, заметим, что в этом контексте державинская строфа из «Фелицы», где «Коня парнасска не седлаешь, // К ду́хам в собранье не въезжаешь, // Не ходишь с трона на Восток, — Но, кротости, ходя стезею, // Благотворящею душою // Полезных дней проводишь ток» — видится своего рода полемикой между Екатериной — Левицким — Державиным, с одной стороны, и Елизаветой — Гроотом — Сумароковым, с другой.
65
В пейзаже нашим героям всяко лыко в строку, любая деталь значима и подлежит дешифровке, в пользу толкователя, конечно же. Так поступает тургеневский Рудин:
«— Посмотрите, — начал Рудин и указал ей рукой в окно, — видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения…
— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры, — возразила Наталья.
— Я вас понимаю, Наталья Алексеевна; но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору.
— Мне кажется, сочувствие других… во всяком случае, одиночество…
Наталья немного запуталась и покраснела».
Чуть позже, тот же персонаж, продолжая нудную свою песнь исстрадавшегося сердца, мучает растерянную героиню:
«— Заметили ли вы, — заговорил он, круто повернувшись на каблуках, — что на дубе — а дуб крепкое дерево — старые листья только тогда отпадают, когда молодые начнут пробиваться?
— Да, — медленно возразила Наталья, — заметила.
— Точно то же случается и с старой любовью в сильном сердце: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь может ее выжить.
Наталья ничего не ответила.
„Что это значит?“ — подумала она».
66
Обратим внимание на заячий тулупчик Петруши Гринева в по сию пору лучшем произведении русской прозы. Ведь чуть не до середины XIX столетия крестьянство не могло носить одежду из меха лесных зверей, так как не имело права охотиться в барских угодьях; так что заячий тулупчик, подаренный Петрушей Гриневым в «Капитанской дочке» Пугачеву, мог стать поводом для сурового наказания. Что бы ни утверждали поклонники реалистической детали, уж больно навязчив заячий мех в исполнении Савельича, в «соло» Петра Андреевича, в трактовке Пугачева. Не эта ли амбивалентность зайца («домопорядок» — «соблазн», «трусость» — «храбрость», «законность» — «преступность») подпевает сюжету, где все про то, как «не было бы счастья, да несчастье помогло»? Сославшись на уже помянутую нами прежде Арину Власьевну Базарову, боявшуюся, как мы помним, «мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек», не евшую «ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи», и на Федора Лаврецкого из «Дворянского гнезда», учившегося у шведки с «заячьими глазами», не станем впадать в раж иконологического гона и вопрошать: уж не «заяц» ли — Гринев? не «кот» ли — Швабрин? В той же опаске не станем поминать и онегинского, не раз прокомментированного «медведя». И не будем ссылаться на всех иных пушкинских зайцев (струсившего, как заяц, Фарлафа из второй главы «Руслана и Людмилы»; косого, как заяц, рыжего мальчишку из второго тома «Дубровского», решившего невольно судьбу любви героя; Татьяну Ларину, которая, согласно VI стиху пятой главы, «Когда случалось где-нибудь // Ей встретить черного монаха // Иль быстрый заяц меж полей // Перебегал дорогу ей, // Не зная, что начать со страха, // Предчувствий горестных полна, // Ждала несчастья уж она»; зайца из «Барышни-крестьянки», помирившего Ивана Петровича Берестова и Григория Ивановича Муромского, что, как известно, и поженило их детей; несчастного или несчастливого косого из симбирского письма Пушкина жене от 14 сентября 1833 г.: «Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой; по этой на станциях везде по 6 лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? не отъехал я и пяти верст. Гора — лошади не взвезут — около меня человек 20 мужиков. Чорт знает, как бог помог — наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом. Авось без приключений»; в дополнение приключения — вполне «заячья», домопорядочная сентенция: «Я все надеялся, что получу здесь в утешение хоть известие о тебе — ан нет. Что ты, моя женка? какова ты и дети. Цалую и благословляю вас. Пиши мне часто и о всяком вздоре, до тебя косающимся. Кланяюсь тетке…»). А уж про то, не есть ли белый заяц, предотвративший, согласно свидетельству С. А. Соболевского, приезд Пушкина в Петербург в декабре 1825 г., продолжение известного ряда «weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch», и думать не станем.
Разве что сообразим, что не зря же именно на Абрамовой (Абрамовской, авраамовской) посадке не для кого-нибудь, а специально для «босяка» и «простеца» Горького, выразительно, как и положено в раю, путающего глаголы настоящего и прошедшего времени, исполнен один из самых трогательных эпизодов авраамической роли патриарха нашего всего послепушкинского Л. Н. Толстого: «Был осенний хмурый день, моросил дождь. Толстой, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие „мокроступы“, молодо прыгает через канавы и лужи, отряхивает капли дождя с веток на голову себе <…> И ласковой рукой гладит сыроватые атласные стволы берез <…> Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Лев Николаевич подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем, и этаким старым зверобоем как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту». Сообразить-то сообразим, а спрашивать: так что же или кого же «гиком» «зверобоя» гонит Толстой — опостылевший, гнетущий его барский «домопорядок»? терзающий его своими разнобойными претензиями «приплод», от оного «домопорядка» происшедший? своего неотвязного дьявола, с коим вместе прятали некогда ружье и крюк покрепче высматривали? персональную ересь личного противостояния в индивидуальном режиме?.. — не будем. Подробнее о толстовских зайцах как эмблемах см.: Вдовин Г. Памяти полушария Ясной // Октябрь. 2005. № 8).
И у Чехова набор все тот же… Ну, вот «Петров день» с традиционным набором — охота, заяц, ревность, обманутый муж, векселя, любовник под кроватью и пр., пр., пр. Вот и «В Москве на Трубной площади», где, как известно, «сидит заяц и с горя солому жует», где «заяц, ежели его бить, спички может зажигать <…> Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь». Тут и «Драма на охоте», где исходная точка разрушения — «зала»: «Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями „Нивы“, фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами <…> Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные… Кое-где по стенам вьется плющ… В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные… Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда… Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц… Уютно, чистенько и тепло… На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смирных стихов… Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости…» Так и в обычнейшем, как кажется, письме А. С. Суворину от 25 февраля 1895 г. из Мелихова, где «между прочим» в кабинет вбегает мать писателя: «„Заяц перед моим окном!“ Пошел посмотреть, в самом деле, на сажень от окна сидит большой заяц и размышляет о чем-то; посидел и спокойно поскакал по саду…»; а далее — и диагноз: «мерцающая скотома», и жениться «не прочь, хотя бы на рябой вдове», и смерть Н. С. Лескова, и приговор Ницше: «…с таким философом <…> я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь. Философию его, впрочем, я считаю недолговечной. Она не столь убедительна, сколь бравурна» (подробнее о посконной эмблематике зайца см.: Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2001. С. 120–121)
А коли уж вспомнить о кошках и котах (Там же. С. 149–150), в качестве амбивалентного знака часто забирающих ряд и без того непростых, эмблематических функций зайца, четвероногих, перебегающих нам дорогу в городах вместо сельских длинноухих, и процитировать, к примеру, «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя с Пульхерией Ивановной, чья серая кошка сбежала однажды к диким лесным котам и вернулась в качестве предвозвестника смерти бедной старушки, то и вовсе далеко зайдем.
67
А Лейбниц писал чуть спустя: «Известно, что у дьявола были свои мученики, и если довольствоваться только силой своего убеждения, то нельзя будет отличить наваждения сатаны от вдохновения Святого Духа». Ср. у русского автора: «Дивен Бог во святых Своих, но ежели осмелиться сказать, то Он еще дивнее в грешниках» (Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действ[ительного] тайн[ого] советн[ика] сенатора И. В. Лопухина, сочин[енные] им самим // Русский Архив. 1884. № 1. С. 32).
68
Modzelewski M. Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego (cikl Wielkiego Tygodnia w Polsce) // Rochniki humanistyczne. T. XII. Lublin, 1964. S. 5.
69
Вынужденно цитирую этого в своем роде замечательного, но, к сожалению, малоизвестного, особенно в центральной России, и почти неизданного мыслителя по изд: Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. М., 1981. С. 54. Не на его ли писания опираясь, выводит Гоголь свое знаменитое: «Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, все бы подвигнулось…» (Гоголь Н. В. Собр. соч. М., 1994. Т. 6. С. 34). Приметим, что и в самом деле «в православной церкви театральным началом, пусть достаточно скупым, характеризовались такие моменты, как вынос плащаницы, неделя Вайи, шествие на осляти, крестный ход, обряд омовения ног, пещное действо. Они не касались Рождества и Пасхи, на которых держался католический литургический театр. Приближение к театральности при выносе плащаницы или в обряде омовения ног будто намечали путь к архаическому действу типа литургической драмы, но никогда не достигали ее» (Софронова Л. А. Культура сквозь призму поэтики. М.,2006. С. 278).
70
Крашенинников А. Ф. Некоторые особенности переломного периода между барокко и классицизмом в русской архитектуре // Русское искусство XVIII в. Материалы и исследования. М., 1973. С. 98.
71
Припомним явление двух Екатерин приснопамятного лета 1762 г., когда, похоже, именно Ф. Волков — активный участник заговора — явил мало кому знакомую в лицо императрицу в роли и костюме «женщины на коне в Преображенском мундире». А поскольку везде она не поспевала, то была «создана» и дублер — Е. Р. Дашкова — в том же почти «обличьи». Единственная разница — орденские ленты. Только «настоящая» Екатерина могла быть в андреевской, в то время как дублер выступала в ленте екатерининского ордена. В любом случае, не зная кому верить, Екатерине ли II, Екатерине ли Дашковой, сомневаясь, вместе ли они скакали перед двенадцатитысячной гвардией или поврозь, ясно одно: после непродолжительного и несчастного царствия Петра Федоровича «сценарист» и «режиссер» (Екатерина и Волков) грамотно разработали образ, закрепленный как общее место М. В. Ломоносовым: «Внемлите все пределы света // И ведайте, что может Бог! // Воскресла нам Елисавета: // Ликует Церковь и чертог». И продолжит для острастки и всеобщего ликования, прозрачно намекая на метод получения власти и принципы режиссуры: «Елизавета — Катерина, // Она из обоих едина».
72
К счастью, художник оставил нам сохранившееся «Изъяснение», где подчеркивает, что «сия программа заключает в себе пять разных сюжетов. 1. Пришествие послов Владимировых к князю Полоцкому, чтоб отдал дочь свою Рогнеду Владимиру в супружество. 2. Прибытие Владимирово с его войском и взятие силою столичного города Полоцкаго. 3. Лишение жизни Рогвольда с двумя его сыновьями. 4. Первое свидание владимирово с Рогнедою. 5. Бракосочетание его с нею. Но как Императорская Академия художеств в зделании по сей программе картины положилась на мою волю…»
73
Алленов М. М. Русское искусство XVIII — начала XX в. М., 2000. С. 32.
74
Ничуть не сомневаясь, эпоха пером одного из своих пророков декларирует: «Христос нестареющий наш Купидон» (Сковорода, Григорий. Собр. соч. Т. 2. С. 54).
75
Сравни с фантастическими и горделивыми измышлениями А. Сумарокова о природе европейских языков: «…ибо мы и почти все по нынешнему времени, знатнейшия Европейцы, суть Дельты: а язык Цельтской есть язык Славянской, который от древняго, почти единою долготою времени отменен <…> Да и сами греки суть отродия Цельтов, смесивься после с Египтянами и с Финикиянами, что их язык показывает <…> да и сами Латины от Цельтскаго же произсхождения, свой язык смесив оный с греческим от Цельтскаго отличили: и осталися только одни Славяне при своем прежнем, т. е. при Цельтском языке, который ныне под именем Славенского в разных наречиях пребывает». Вообще, соблазн панславянского оправдания глубокой древностью, сопоставимой разве что с самыми старшими народами, долго не оставляет авторов. Чуть полстолетия спустя, Мицкевич возводит славянство к Ассирии (Mickiewicz A. Dziela: in 16 t. Warszawa, 1955. Т. VIII. S. 20) и сетует на то, что не сохранилось портрета Навуходоносора, а то мы бы имели облик праславянина. Немного позднее он видит очевидные следы праславянства в этрусках. Лингвистические же реконструкции обоих авторов, нуждающихся в реабилитации славянских языков перед «классическими», коим наследуют языки романо-германской группы, с лихвой предвосхищают самые смелые теории Н. Я. Марра (подробнее см.: Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989. С. 39–40). Заметим, наконец, что все подобные размышления неизменно приводят к опытам национального автопортрета вроде: «Тот, кто не восторжен, размышляя о самом высоком и Божьем, тот и вовсе не наш, не из нашего он племени <…> тот совсем не поляк, тот не чистый славянин вовсе» (Mickiewicz A. Dziela: in 16 t. Warszawa, 1955. Т. XI. S. 347–348; перевод наш. — Вд.). Конечно, все эти экзерсисы говорят о филологической наивности раннего Нового времени и живо напоминают оплошку Бальзака, когда Рафаэль — герой «Шагреневой кожи» — попадает в антикварную лавку и, бойко прочтя написанный на пергаменте арабский текст, удостаивается комплимента хозяина: «А Вы бегло читаете по-санскритски». Однако все эти странные сближения готовят почву сравнительного языкознания как науки.
76
«Игрушка немая» — живая картина или будущая «немая сцена» у Н. В. Гоголя. К примеру: «Между тем Панталон выходит тишком, и стал посреди их; из того происходит игрушка немая» (Юнисов М. В. Живые картины // Маска и маскарад в русской культуре XVIII–XX веков. М., 2000).
77
Примечательно, что, быстро усвоив уроки силлаботонической метрики (как романской, так и германской), где, помимо всего прочего, каждая строка начинается с заглавной буквы и существительное, попадающее в начало строки, приобретает дополнительные, едва ли не символические смыслы (У Тредиаковского читаем: «С одной страны гром, // С другой страны гром, // Смутно в воздухе! // Ужасно в ухе! // Набегли тучи, // Воду несучи, // Небо закрыли, // В страх помутили!» и видим новые нарративы в этой «Воде» и этом «Небе»), русские так и не стали писать «Я» с большой, подобно, допустим, англичанам.
78
Один из теоретиков эпохи, Л. Г. Якоб, разрешая вопрос о «подражании» на примере скульптуры, замечал, что «эстетические творения ваяния должны обольщать воображение, а не чувства». И добавлял далее: «Они не достигают своей цели, коль скоро предпринимают обольщать чувства. Восковые обличья, похожие на живые предметы до чрезвычайности, не возбуждают никакого эстетического чувства, но паче трепет и ужас, ибо они дают только мертвое чувствовать в живых предметах». Устойчивость эмблемы, внятность ее засвидетельствовал Н. С. Лесков в романе «Островитяне», где, рассуждая о нравах студентов Академии художеств, заканчивает свои призывы к обновлению искусства следующим пламенным пассажем: «Время громко говорит художникам: берите из своих преданий все, что не мешает вам быть гражданами, полными чувств гражданской доблести, но сожгите все остальное вместе с старыми манекенами, деланными в дни младенчества анатомии и механики, и искреннее подайте руку современной жизни».
79
Сковорода, Григорий. Собр. соч.: Т. 1. С. 152.
80
Соколов М. Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.
81
Замечательно, как Тредиаковский и Сумароков, в равной степени не лишенные этого недостатка, пишут друг на друга пародии в таком роде: «Потому што, ох! для тово што, нет! затем што, тьфу! ибо тьфу тьфу!», являя нам парадокс пародии, становящейся автопародией.
82
«Но что за шум, какой хаос // Мои там подняли крестьяне? — // Ах! я забыл, что сенокос! // Пусть пляшут добры поселяне; // <…> // Под скрыпку там ребяты скачут, // Старик смеется в сединах; // Где глаз не видно, кои плачут, // Там жизнь — как мягкой путь в цветах», — писал один из заказчиков подобных сельских праздников.
83
Недаром же очень скоро таврический миф Новороссии сменяется американским мифом колонизируемого Нового света. Именно Северо-Американскими Соединенными Штатами поверяют Новороссию Г. П. Данилевский, В. Ф. Одоевский, А. И. Герцен. Подробный анализ эволюции этой мифологемы см.: Горизонтов Л. Е. Новые земли империи в зеркале культурных традиций: Новороссия Г. П. Данилевского // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007. См. также: Панченко A. M. «Потемкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII — начала XIX в. в общественно-культурном контексте // Л., 1983; Вдовин Г. В. «Не все золото, что блестит», или «Живой труп». Заметки о риторическом эффекте в русской культуре XVIII в. // Вопросы искусствознания. М., 1995. № 1–2.
84
Мещеряков А. Н. Ранняя история Японского архипелага как социоестественный и информационный процесс // Генетические коды цивилизаций. М., 1995. С. 174–178. Приметим, что эта дальнозоркость русской культуры, эти минусовые диоптрии отечественной живописи долго не позволяют увидеть значимого мелкого, сущностной детали, важной подробности. Так, например, еще в 1790-е гг. русское общество, вслед за кумирами в бланжевых чулках, начинает «ботанизировать» («Жар проходит — иду на луг ботанизировать; <…> любуюсь травками и цветочками, рассматриваю их тонкие жилочки, зубчатые краешки, пестренькие листочки, будто бы из тончайшего шелка сотканные, то гладкие, то пушистые, удивляюсь разнодушистым испарениям, разносвойственным сокам, варимых в цветочных чашечках искусною Природою, удивляюсь тонким сосудам, в которых сии питательные соки обращаются и которыя втягивают во внутренность растения живительный воздух», — гладко писал Н. М. Карамзин в очерке «Мой день» (цит. по: Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М., 1988. С. 230–231). Живопись почти не заметила этого увлечения.
85
Замятин Д. Н. Сознание Земли // Известия РАН. Серия географическая. 1995. № 1. На разработке этого парадокса «дальнозоркости-близорукости» строит, например, ранние свои произведения Н. В. Гоголь, где в «Майской ночи…» ведет свой бесконечный рассказ о путешествии с царицей Екатериной пан голова, где летит над огромной страной за царицыными черевиками для желанной кузнец Вакула в «Ночи перед Рождеством».
86
Приметим, что именно в раннее Новое время складывается логически непротиворечивая и практичная система графической передачи земного рельефа и городского ландшафта в картах: методика штрихового изображения рельефа, принципы показа стока вод с возвышенностей, правила рассечения поверхности горизонтальными плоскостями и, главное для нас, — передача пространства при непременном соблюдении правила условного освещения картографируемой местности неуклонно с северо-запада, сиречь с «осенника» (Литвин А. А. Городской ландшафт на российских крупномасштабных картах. 1700–1840-е // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007).
87
88
Менделеев Д. И. К познанию России. СПб., 1906. С. 144–146.
89
Два столетия спустя другой петербуржец, обреченный нобелевскому жесту urbi et orbi, с ничуть не менее обостренным нюхом на имперское и имперскость в неизменно исповедальном диалоге проговорит и за вопрошающего, и за себя: «„Что ты любишь на свете сильнее всего?“ — // „Реки и улицы — длинные вещи жизни“».
90
См. рассуждение того же Григория Сковороды, столь парадоксально воплотившего в своем творчестве «вышнюю ученость» интеллектуалов эпохи и парадигмы ее простецов: «А видали ль вы когда символ, представляющий дождевный облак с радугою? А возле его сияющее солнце с подписью „Ни дожда, ни радуги без солнца“. Так Библия: „Дондеже найдет дух от вышняго“» (ср. Быт. 9:14, 9:16; Иез. 1:28) (Сковорода, Григорий. Собр. соч. Т. 1. С. 393). Впрочем, для этого «смелого мыслью» философа вся Библия — зверинец Божий; и наоборот: любое собрание «скотов, зверей, птиц, чистых и нечистых» — священный текст (Т. 2. С. 20). Ведь чистое сердце подобно благородному орлу, молотящему волу, вепрю, верблюду, оленю… «Таково сердце не олень ли есть? Даром, что рогов не имеет <…> Надень кожу его с рогами, без сердца его, и будешь чучела его» (Т. 1. С. 279).
91
Так, 1 января 1719 г. в новогодней речи Петр I сравнил себя с Ноем, «который с негодованием взирал до сих пор на древний русский мир, теперь же он возымел надежду, с помощию учрежденных вновь коллегий, привести свое государство в новое, лучшее состояние» (Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский архив. 1872. Вып. 9. С. 1664).
92
Ведь еще в 1803 г. Н. М. Карамзин без аффектации противопоставления писал: «Рощи — где дикость Природы соединяется с удобностями Искусства, и всякая дорожка ведет к чему-нибудь приятному <…> — наконец заступают у нас место так называемых правильных садов, которые ни на что не похожи в натуре и совсем не действуют на воображение. Скоро без сомнения перестанем рыть и пруды, в уверении, что самый маленький ручеек своим быстрым течением и журчанием оживляет сельские красоты гораздо более, нежели чем мутные зеркала, где живет вода неподвижная» (Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя// Карамзин Н. М. Соч. Т. 8. М., 1835. С. 143). Отсутствие воды и простора, воздуха в сочиненных парках вскоре станет общим местом. Удушье констатирует незамысловатый П. Боборыкин: «Сад, разбитый по старинному плану, во французском вкусе, смотрел чопорно и тесновато после нашего парка. Подстриженные деревья, мраморные бюсты, диванчики, куртины пестрели перед глазами. Но не хватало тени, простора, не было отдаленного блеска воды… И воздуху точно меньше было…» (Боборыкин П. В наперсниках [Из записок холостяка] // Отечественные записки. 1880. № 12. С. 428–429).
93
Надеждин Н. И. О современном направлении изящных искусств // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. Т. 2. М., 1974. С. 451.
94
Неизвестный автор. Пламед и Линна // Русская сентиментальная повесть. М., 1979. С. 255.
95
А восемьдесят лет назад русский человек готику еще не видит, не ценит, не понимает ее особости. Разве что Петр Толстой, едва не сквозь зубы и походя, запишет в 1697 г. для очистки совести честного информатора, что около Рима «много <…> древних лет строения каменного, которое уже от многих лет развалилось» (Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе / Изд. подгот. Ольшевская Л. А., Травников С. Н. М., 1992. С. 188).
96
О символике и эмблематике готики Баженова см.: Медведкова О. А. Предромантические тенденции в русском искусстве рубежа XVIII–XIX вв. // Проблемы историографии и истории культуры народов СССР. М., 1988; Медведкова О. А. Царицынская псевдоготика В. И. Баженова: опыт интерпретации // Вопросы искусствознания’4/93.
97
Понятия современности и историзма рождаются одновременно. Понять современность — значит понять ее своеобразие, отличие от других эпох, т. е. просветить ее перспективой исторического движения. Неслучайно само обращение к прошлому (или к будущему) впервые ощущается как уход от современности именно в романтизме. Следовательно, родилось само чувство современности, раз ощущается уход от нее (Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. М., 1972. С. 162).
98
Цит. по: Михайлов А. И. Указ. соч. С. 156.
99
Волошин М. Дух готики (цит. по.: Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986. С. 338).
100
Все тот же В. И. Баженов, наверное, первым в отечественной культуре заявил тему «руин», запроектировав в 1765 г. увеселительный дом в саду Екатериенгофа, где намерен был его цоколь «представить развалинами древнего Дианина храма» (цит. по: Герчук Ю. Я. Руины в баженовском проекте Екатерингофского дворца // Тема руин в культуре и искусстве. Царицынский вестник. Вып. 6. М., 2003. С. 147). Изучая же проблему первенства изображения руин в плоскостных искусствах, согласимся пока с М. Д. Краснобаевой, утверждающей, что прежде иных рисовали их ученики Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, обремененные изображением «рюин замков» в качестве учебной программы (Краснобаева М. Д. Руины в рисунках воспитанников Сухопутного шляхетского кадетского корпуса середины XVIII в. из собрания ГМУ «Архангельское» // Там же. С. 79–88).
101
А. Кушнер. Так же, через псевдоготику, характеризует Б. Пастернак состояние героя своей «Повести»: «Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что ей обходится сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепью в его кратчайшем и драгоценнейшем извлеченьи, он смотрел, как, обсаженная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то из Шотландии» (Пастернак Б. Л. Повесть // Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982. С. 184.)
102
Отметим, что для Вяземского «готическое» суть «чужое», «немецкое» немотствующее, чужеродное. Так, характеризуя мудрость Петра Великого, он отмечает: «Он мог и должен был пользоваться чужестранцами, но не угощал их Россией, как ныне делают. Можно решительно сказать, что России не нужны и победы, купленные ценой стыда видеть какого-нибудь Дибича начальствующим русским войском на почве, прославленной русскими именами Румянцева, Суворова и других. При этой мысли вся русская кровь стынет на сердце, зная, что кипеть ей не к чему. Что сказали бы Державины, Петровы, если воинственной лире их пришлось бы звучать готическими именами Дибича, Толя?». И мощно итожит: «На этих людей ни один русский стих не встанет».
103
Начало ключевому происшествию положено желанием «странного» у одной из героинь Тургенева. А чем, собственно, была «готика» или «псевдоготика», как не охотой «иного»?
…а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir [увеселительная прогулка. — Вд.] чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево — нелепость, — и наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!» [ «Какая нелепость!» — Вд.] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова), — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин…
Прервем цитату, дабы отметить некоторые значимые детали предложенной Тургеневым картины мира. Поместив Москву в его центр, аки Птолемей, автор очевидно противопоставляет европейский «Запад» Кунцева евразийской черноземности «Юга» Царицына, а Августину Христиановну — Уварам Ивановичам, некий «романогерманизм» вообще — некоему «славянотюркизму» pari, так сказать, causa. Приметив, продолжим…
Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень (позволим себе курсивом фиксировать, «романтический» взгляд публики на памятник русского классицизма. — Вд.). Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного счастия на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие.
«Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны, — шепнул Берсеневу Шубин. — Там теперь Болгария», — прибавил он, показав бровями на Елену.
Отметим здесь настойчивое moderato начала панславянской темы, не только актуальной в политике тех лет, но и востребованной героями именно в Царицыне в его подспудном споре «панславянской» и «трансконтинентальной» версий готики.
Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой [космополитическому «Бельведеру» предпочтен скалькированный, но родной «Миловид». — Вд.], и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ними. Мурава [без церковнославянизма какой патриотизм! — Вд.], покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом; даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапуски. Они отыскали большую, раскрашенную лодку, отыскали двух гребцов и позвали дам <…>
Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно, — заговорила она. — Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать» [вновь отметим «народную», «древлерусскую» выспренность высказывания. — Вд.]. Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыном. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки в беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» — промолвила Анна Васильевна… Но в это мгновенье, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.
Итак, абзацем и всем совокупным синтаксисом отмечен конец национальной и панславянской идиллии с «миловидами» и прочими «муравами» да «бородами» при уварах Ивановичах, охотно принимаемыми болгарином Инсаровым и, стало быть, всеми «братушками», включая чехов, мораваков, словенцев, словаков и многих пр. за правду, коей противостоит, надо полагать, романо-германское зло.
А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики — и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.
— Бонжур, мадам, — проговорил он сиплым голосом, — как ваше здоровье? [отметим «смесь французского с нижегородским», на котором заговорил враг. — Вд.].
Анна Васильевна пошатнулась назад.
— А отчего вы, — продолжал великан дурным русским языком, — не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и браво, и форо?
— Да, да, отчего? — раздалось в рядах компании.
Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну. Позвольте, — начал он, — почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени; следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps, triceps и deltoideus, что, как ваятель, почел бы за истинное счастие иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.
«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.
— Я ничего не понимайт, что вы говорит такое, — промолвил он наконец. — Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э! Я официр, я чиновник, да. [настойчиво предлагается тема немецкого как «немотствующего», сиречь иноязычного, влияния-вливания в русскую жизнь, переводя разговор из «часовщиков — гробовщиков — кондитеров» в «чиновников — офицеров
— генералитет». — Вд.]
— Я не сомневаюсь в этом, — начал было Шубин…
— А я вот что говорю, — продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги, — я говорю: отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас, сей минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.
— Ничего, einen Kuss, это ничего, — раздалось опять в рядах компании.
— Jh! der Sakramenter! — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец [не комментируя смесь «неметского» с «росским» и законность требования поцелуя, отчеркнем «чирость» немца, при том что уже для В. И. Даля «чирый», т. е. «укатанный», «убитый», «стихший», «самый мелкий», «утоптанный» — устаревшее, глубоко провинциальное и «северное», вряд ли свойственное черноземскому Тургеневу. — Вд.]
Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом [дюжесть обидчика педалируется еще и еще раз, дабы будущая победа славянского Давида над германским Голиафом была убедительнее. — Вд.]
— Извольте идти прочь, — сказал он ему не громким, но резким голосом, [диглоссия — французского и русского, приличного и обычного — является нам тут во всю мощь; чего бы проще: «Пшёл вон!». — Вд.]
Немец тяжело захохотал.
— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь? [оппонент точно ловит семантическую разницу глагольных форм произнесенного: «извольте» и подразумеваемого «пшёл». — Вд.]
— Оттого что вы осмелились беспокоить даму, — проговорил Инсаров и вдруг побледнел, — оттого что вы пьяны.
— Как? я пьян? Слышить? Horen Sie das, Herr Provisor? [ «Вы слышите это, господин провизор?» И «русский немец генерал» вновь возвращается в просто национальное «русский немец аптекарь», туда же — врач, гробовщик, часовых дел мастер и пр. — Вд.] Я официр, а он смеет… Теперь я требую Satisfaktion! Einen Kuss will ich! [ «требую удовлетворения», переводит Тургенев, отлично знающий, что слово «сатисфакция» в русском словаре уж с начала XVIII в. точно находится. — Вд.]
— Если вы сделаете еще шаг, — начал Инсаров…
— Ну? И что тогда?
— Я вас брошу в воду.
— В воду? Herr Je! [Господи Иисусе! — Вд.]. И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду…
Господин офицер поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крякнул, все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин офицер, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.
— Ай! — дружно взвизгнули дамы.
— Mein Gott! — послышалось с другой стороны.
Прошла минута… и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ…
— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.
— Выплывет, — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. — Пойдемте, — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку, — пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.
— А… а… о… о… — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.
Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако… это бог знает что… после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет… [наконец, является долгожданный русский немец генерал. — Вд.]
Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку.<…>
В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу.
Тут бы и оборвать наконец чрезмерно затянувшуюся цитату, кабы не финальное виде́ние Елены в Италии, видение, прорицающее не столько судьбу Инсарова, сколько будущее развитие «готики» в московской, и не только в московской, архитектуре.
Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны… все закружилось, смешалось…
Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она.
— Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. «Елена! Елена!» — слышится голос из бездны. [Соловки как настоящая, суровая, реальная, «северная», сиречь подлинная, Россия, представленная прежде лишь срединной Москвой и «южным», евразийским Царицыным, возникает здесь как земля подвига. — Вд.] «Елена!» — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись.
Тут и отошел русский болгарин, панславист Инсаров, разметивший юг Москвы, вообще, и Царицыно, в частности, как топос конфликта меж панславизмом, пангерманизмом и пантюркизмом.
К нашему рассуждению о «германороманском» и «славянотюркском» остается лишь добавить, что «инсар» на фарси — «эта голова», совсем уж точно: «это голова!» (Благодарю Ш. М. Шукурова за это ценное наблюдение.) Если даже предположить, что «югорусс» Тургенев произвел фамилию героя от центра Инсаровского уезда Пензенской губернии, то и здесь очевиден тюрко-фарси-славянский волапюк. В доказательство же заложенной, согласно нашей провокационной идее, в царицынском ансамбле антиномии «романо-германского» — «панславянского» со всеми предикатами «индивидуального» — «личного» присовокупим финал «Анны Карениной», пытаясь уловить в черством воздухе недооцененного по сию пору текста железнодорожный перестук великого и скорого поезда «Роман Толстого „Анна Каренина“», идущего так, как текут наши реки, мчащегося с Северо-Запада, от Николаевского вокзала, от петербургских трясин к степям Юга, к вокзалу Курскому, к Оке, к границе суглинка и чернозема, а там, глядишь, и вместе с Вронским — на Балканы… Ну, правда, не стал бы Толстой, изрядно поиздевавшись над патриотами и патриотками, попусту в финале констатировать: «На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших „Славься“. Опять добровольцы кланялись и высовывались…» А дальше — опять кружки пожертвований, сестры милосердия, «Живие!» и прочее геройство, тут же развенчиваемое «зеркалом русской революции» не без оснований.
Заметим, кстати, что все еще легкий на подъем герой эпохи, не страдая манией романтического интеллектуализма, не жаловал письменных столов, предпочитая секретеры, конторки, бюро. В реальности он все еще предпочитает отнюдь не пышные парадные спальни, но простые полати, застеленные соответственно его вкусу. Он постепенно опредмечивает свою персону, и в этом смысле любимый столовый прибор Петра и любой из его портретов — памятники одного события и одного процесса. По правде, все еще не окончательно сформированы такие жанры жизни, как персональный столовый прибор или, скажем, набор белья. Очевидна их зависимость от процесса «гоминизации», от норм, диктуемых новыми — персональным и индивидуальным — состояниями «Я». Примечательно, что такой авторитетный историк общежития, как Джованни Ребора, толкуя изобретение вилки (Ребора Дж. Происхождение вилки. История правильной еды. М., 2007), прибегает лишь к технологическим интерпретациям (лазанью, де, невозможно есть ни руками, ни ложкой и потребно «деревянное шило» [Там же. С. 29–30]), и не обращает внимание ни на эволюцию прибора из «деревянного шила» в вилку, состоявшуюся именно в эпоху Возрождения (нельзя, впрочем, не провести параллели со славянским Возрождением с его спецификой и типичностью, очень точно зафиксированным Н. В. Гоголем в первом томе «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, — какого он роду, бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено»), ни на «персонализацию» вилки, тогда как в истории тарелки вынужден хотя бы прибегнуть к упоминанию ментальной перемены Ренессанса: «Когда Гарпия прокляла Энея, она напророчила герою и его соратникам, что их „заставит голод жестокий столы пожирать, вгрызаясь зубами“ [Вергилий. Энеида. III, 256–257]). Пророчество сбылось, но оказалось не столь уж страшным: Энею и его соратникам пришлось есть хлебные круги, которые служанки раздавали перед пиром и которые использовались в качестве тарелок. Зато мы можем сказать, что соратники Венеры ели самую древнюю в мире пиццу: ведь это были хлебные круги, пропитанные соками и остатками еды, которую на них клали, чтобы резать, — эти хлебные круги назывались mensae [т. е. столы — лат. — Вд.]. Предполагалось, что каждую такую менсу делят между собой два человека, поэтому про них можно было сказать, что они „едят за одним столом (на одной менсе)“. На этой менее, в основном, резали мясо. Уже в XII в., гораздо раньше, чем в других странах (Ж. Л. Фландрин, например, пишет, что во Франции большие куски хлеба сменились тарелками лишь в XVI в.), в Италии хлебную менсу (или просто кусок хлеба) стали заменять специальной дощечкой. Этот предмет, который довольно часто встречается в средневековых документах, представлял собой круг из дерева или из глины, которым тоже пользовались одновременно два человека. Именно поэтому вплоть до XV в. принято было говорить „stare a tagliere“, т. е. „делить с кем-то дощечку“, с тем же значением, что и „stare alia stessa mensa“ („есть за одним столом“). А в XV в. в Италии, опять-таки раньше, чем где бы то ни было, на смену дощечке на двоих пришла индивидуальная тарелка. В это же время стали пользоваться индивидуальными стаканами и, как уже упоминалось, вилкой. Гуманизм имел последствия и в такой области. Я, конечно, не буду утверждать, что этот переворот в культуре питания случился именно под влиянием трудов гуманистов, но эти новые обычаи, родившиеся в мире коммун (речь идет об итальянских городах-коммунах XIII–XV вв.), объясняются новым мировоззрением, появлением индивидуальной точки зрения, недаром в это время в живописи появляется перспектива, эту точку зрения воспроизводящая» (Там же. С. 173–174.).
Обрастая персональными вещами и выделяя собственную территорию, молодое русское Ego наделяет их новыми смыслами. К примеру, историки фарфора XVIII столетия, отмечая «приватность» такого порцелинового жанра, как ставший популярным во второй половине века «тет-а-тет», упорно не договаривают (до всех Фрейдов) его вполне сексуальную эмблематику. Прочтем хотя бы Новикова: «Престарелый Селадон хочет иметь у себя в услужении прекрасную молодую девушку: должность ее состоять будет в том, чтобы по утрам и вечерам подавала ему шоколад. Напротив того, обещает он ей ежегодное богатое содержание с тем, чтобы сия девушка весьма была исправна в своей должности, и с таким притом примечанием, чтобы она никогда и никому не давала из той чашки, из которой он будет сам пить; ибо сей дворянин в таком случае весьма завистлив и разборчив» (пит по: Новиков Н. И. Живописец. [Подряды] // Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. С. 148–149). Чтобы понять, как соединяются в таких случаях национальное и евразийское, присовокупим одно из многих и типичных свидетельств XVII–XIX вв.: «Дружка спрашивал на другой день молодого: „Что, лед пешал [т. е. лед пешней рубил. — Вд.] или грязь топтал?“, — подавая стакан водки. Если молодая оказалась целомудренной, тогда стакан разбивался, если нет — ставился на стол» (Личный архив Я. Кузнецова по описанию Вологодской губ. // Кузнецов Я. О. Семейное и наследственное право в народных пословицах и поговорках. СПб., 1910. С. 47).
104
См. у П. А. Вяземского: «Однофамилец и приятель его [A. M. Пушкина. — Вд.], Василий Львович (тоже особняк в своем роде), отличавшийся правильным и плавным стихом, не лишенным иногда изящности и художественности, смотрел с гордой жалостью на рифмокропание родственника своего и только пожимал плечами в классическом пренебрежении, но тот сокрушал его своим метким и беспощадным словом». Тот же автор в тех же «Старых записных книжках»: «Еще одна черта: несмотря на свое особничество, N. N. бывал в приятельских связях своих мало разборчив. Бывали приятелями ему нередко люди очень посредственные, дюжинные, даже, в некоторых отношениях, не безупречные, пожалуй, частью, и предосудительные. В этом отношении натура его была снослива. Одно натура его не могла вынести: соприкосновение с натурами низкопробными, низкопоклонными, низкодушными».
105
Цит. по: Вольтер. О душе. // Вольтер. Философские сочинения. М., 1989. С. 550.
106
См. употребление слова у Карамзина, Пушкина, Гоголя… Словарь Даля закрепляет это значение: «Личность — лицо, самостоятельное, отдельное существо» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СПб.;М., 1881. Стб. 668–669). Почти то же самое происходило с понятием «характер». И потому прочтем у Достоевского без удивления: «Объявлялся характер и рекомендовал себя сам» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 15. Л., 1976. С. 94). Ср. наблюдение такого тонкого современного слависта, как Игорь Клех: «Младший Щек незадолго перед войной сделался проповедником-спортсменом: ходил по перилам мостов <…> Однажды на краю села он спилил верхушку ели так, чтобы на срез ствола поместились две его стопы, и оттуда, стоя, внушал нечто собравшимся жителям <…> Для таких людей имелось здесь емкое слово с не вполне определенным значением — „характерник“…» (Клех, Игорь. Охота на фазана. Семь повестей и рассказ. М., 2002. С. 277).
107
См. о знаке «мака» в контексте рождества и успения: Софронова Л. А. Указ. соч. С. 311; Судник Т. М., Цивьян Т. В. Еще о растительном коде основного мифа: мак // Balcano-Balto-Slavika. M., 1979. «Характер рождественского ужина славян позволяет прямо сопоставить его с поминками» (Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982. С. 147). «Во время поминального обряда зерно полагалось разбрасывать по углам избы. Мак часто сыпали по пути с кладбища, а также на могиле. Мак — одно из наиболее мифологизированных растений и часто встречается как элемент обряда провожания покойника» (Там же).
108
Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1757 (на титуле -1755). С. 12. Примечательно, что для эпохи возможно написание портрета «со слов»: «Один живописец за несколько времени разбогател, объявив, что способен написать портрет человека, не видя его; просил он только одного — чтобы заказчик портрета хорошенько все рассказал и описал лицо с такой точностью, чтобы живописцу нельзя было ошибиться. Получалось из этого, что портрет делал еще более чести тому, кто рассказывал, нежели живописцу; порой же заказчик принужден был говорить, будто портрет совершенно похож, ибо в ином случае художник выдвигал законнейшее из оправданий и объявлял, что коли портрет вышел непохож, то вина здесь того, кто не сумел описать ему облик человека» (Казанова Дж. История моей жизни. М., 1991. С. 167 и сл.) Почти столетие спустя Петр Вяземский все еще декларирует как новость: «Чтобы твердо выучиться людям, не подслушивать, а подмечать их надобно. Одни новички проговариваются, но и у самых мастеров сердце нередко пробивается на лице, или в выражениях» (Вяземский П. А. Записные книжки. 1813–1848. М. 1963. С. 279).
109
Осипов Н. П. Новый карманный словарь для щеголей и красавиц // Что-нибудь от безделья и на досуге, еженедельное издание, частию исторического, а частию морального, критического и публицистического содержания, взятого из лучших иностранных периодических писателей, но больше состоящего из самых новейших кратких российских сочинений. 1798. Вып. 4. С. 48.
110
Трезво взглянув, поймем, что переводится неизменно то из «них», чего не хватает у «нас». И наоборот. Эдгар По переведен на кириллицу прижизненно и стал предметом раздора («читал-не-читал») для специалистов по творчеству Н. В. Гоголя; Гоголь же вышел по-английски лишь в начале XX в.
111
«В 1762, 63 и 64 гг. он уже был столь искусен и знаменит, что один не мог справиться со всеми заказанными ему работами», — писал Я. Штелин.
112
Чудесная нравственная перемена в одночасье, понимаемая как возвращение к «истинному», «естественному» от «искаженного», «не-благо-при-обретенного», — устойчивый мотив мемуаристики и изящной словесности. Так, к примеру, И. В. Лопухин, «погрязший в вольномыслии» настолько, что перевел на русский язык «Систему природы», вернулся к истине: «Напечатать его [перевод. — Вд.] было нельзя. Я расположился разсевать его в рукописях. Но только что дописал первую самым красивым письмом, как вдруг почувствовал я неописанное раскаяние — не мог заснуть ночью прежде, нежели сжег я и красивую мою тетрадку и черную». Еще раз обратим внимание на то, что все эти многочисленные «вдруг», «внезапно», «нежданно» в описаниях нравственных метаморфоз и жизненных происшествий не дают каких-либо объяснений причин трансформации.
113
Артиллеристы-фейерверкеры ценились чрезвычайно: карьера М. В. Данилова — тому свидетельство (см.: Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им самим в 1771 году. М., 1842).
114
История явления этой удивительной философской категории чрезвычайно увлекательна. Традиционно полагают, что она введена в обиход Венсаном Вуатюром в его «Письмах» (Письмо от 24 января 1642 г.) Дальнейший генезис см.: Вдовин Г. В. Персона. Индивидуальность. Личность. Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М., 2005. Гл. 2.
115
Технико-технологическая экспертиза полотна подтверждает, что портрет, именуемый нами «Неизвестный в треуголке» начала 1770-х гг., написан поверх женского портрета рокотовской же кисти 1760-х, причем — и это самое загадочное — лицо не претерпело никаких изменений.
116
Заметим, что у Рокотова подобного рода эмблемы функционируют в более широком смысле, нежели у его предшественников: не просто как эмблема человеческого бытия (традиционная и аморфная), но и как эмблема духовного становления и нравственного развития. Ср., например, у одного из мудрецов эпохи, Гамалеи: «Мы должны из оного грешного, злого и лукавого человека вырождаться в духовного человека по образу Искупителя нашего, как цветок из навозной земли вырождается».
117
Простой и почти буквальный перевод строфы императора Августа — «Душка, бродяжка, летунья», — хорош и точен; но не попадает ни в размер, ни в метрику. Вариант — «Сердечко, бродяжка, летунья», — куда как ближе в ритме, но, увы, трансформирует семантическую иерархию. На нем и остановимся, не предлагая почти «баратынскую» версию — «Душа моя, бродка, и лётчица».
118
Иванова В. Ф. О первоначальном употреблении тире в русской печати // Современная русская пунктуация. М, 1979. С. 243.
119
Полезное увеселение. 1761. Январь. С. 23–24. Отметим, что журналом руководил М. Херасков; сотрудничали в нем Д. Фонвизин, И. Богданович, В. И. Майков, В. Г. Рубан, Е. В. Хераскова, Е. Сенковский, П. Фонвизин. Все почти — добрые знакомые Рокотова.
120
Ср., например, короткие черточки как неустоявшееся тире: «Ребятишки подведены будучи близко к моей коляске побежали назад. Извозчик схватя одного из них спрашивал, отчего они испугались. Мальчишка тресучись от страха говорил: да! чепо испужались — ты нас обманул — на этом барине красной кафтан — это никак наш барин — он нас засечет» (Живописец. 1772. С. 39). Или: «Ах, я погиб! моя жена изменяет мне — она меня больше не любит!» (Там же. С. 74). Этот знак берет на себя функции именно что многоточия: «Господин Издатель Трутня! Я влюблена в ваш журнал: он мне ужесть как мил! разумеете ли вы меня?… статься не может, чтоб вы не разумели, я об вас всегда лучше думаю <…> Всево больше приятны мне ваши портреты — представить себе не можешь, сколько иныя похожи на людей мне знакомых; я их при них читала: как же они бесились!., и сколько я хохотала!..» (Трутень. 1770. С. 67). Процесс обретения значений будет столь долгим, что еще в 1830-е гг. можно потешаться над его промежуточными результатами: «Я удостоверился, что сентиментальный путешественник имеет право в дорожных записках своих ставить без числа знаки восклицательные!!! вопросительные??? черточки чувствительные — точки меланхолии… гипохондрии… мечтательности… таинственности…» (Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» на 1833. СПб. С. 40).
Характернейшие синтаксические поиски русских переводчиков в двух знаменитейших местах «Страданий юного Вертера» (письмо от 10 мая и, конечно, финал) — поиски в метаниях между тире и троеточиями (см.: Гёте И.-В. Страдания юного Вертера / Изд. Подготовил Г. В. Стадников. СПб., 2002 [особо — «Дополнения» и «Приложения». С. 179–244]). Нетрудно догадаться, что смуту в умы вносил сам Гёте, заявивший: «Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно, — Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он… надеялся, а я… был бы счастлив, если бы… Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно» (Там же. С. 114).
121
В иконологии эпохи бесстрастное зеркало стремится стать подобием «зерцала правосудия», отражая истинное лицо всякого даже в том случае, если перед зеркалом не сам портретируемый, а его живописная или скульптурная «копия». Так, Державин советует жене: «А ты, любезная супруга! // Меж тем возьми сей истукан; // Спрячь для себя, родни и друга // Его в серпяный свой диван; // И с бюстом там своим, мне милым, // Пред зеркалом их в ряд поставь, // Во знак, что с сердцем справедливым // Не скрыт наш всем и виден нрав».
122
Впрочем, такой ли уж «палач»? Вспомним хотя бы Л. Н. Толстого и его «Анну Каренину» с максимами типа: «Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его».
123
Тарасов О. Ю. Сакральные мотивы в экспозиции икон // Оппозиция сакральноесветское в славянской культуре. М., 2004.
124
Бельман К. М. Песни Фредмана. Послания Фредмана. Л., 1982. С. 68. Вообще, встрече Маши с Екатериной II в Царскосельском парке есть множество прецедентов. И героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818), известного Пушкину, просит у королевы Каролины за свою невинно осужденную сестру. И дочь австрийского капитана, лишившаяся отца на войне и живущая с матерью в нищете, толкует о своей беде незнакомому молодому офицеру — императору Иосифу II (Детское чтение для сердца и разума. М., 1786. Ч. 7. С. 110–111)…
125
Подробнейшим образом этот удивительный сюжет исследовал А. Ф. Крашенинников (Крашенинников А. Ф. Счет за деликатную работу, исполненную петербургским механиком [К предыстории повести Н. В. Гоголя «Нос»] // Лица. № 4. М.; СПб., 1994) Вкратце, по архивным документам, история выглядит так. Осип Иванович Шишорин (1758 — между 1811 и 1814 г.) — известный Петербургский инструментальный мастер, служивший в Академии художеств и в Адмиралтействе, представляет счет светлейшему князю Платону Александровичу Зубову (1767–1822).
«ЩЕТЪ
Его светлости и разныхъ орденовъ кавалеру Платону Александровичу Зубову.
По приказание Вашей светлости зделанъ мною находящемуся при свите персидскаго хана чиновнику искусственной носъ изъ серебра въ нутри вызолоченой съ пружиной биндажомъ, съ наружи подъ натуру крашеной 200 сер.
Но какъ одинь искусственной носъ, нося безъ переменно подверженъ всякому непредвидимсму случаю быть поврежденному, того для персидской ханъ просить зделать другой съ принадлежащими къ оному потребностями, какъ то штампъ, из котораго выколачивается нос, тафты, приправленной гумиями, и красочки, дабы онъ мог и будучи въ отечестве своем удобно во время надобности ихъ делать.
Другой нось 100 сер.
Два штампа медных для выколачивания носа 100 сер.
5 аршин тафты, приправленной гумиями 50 сер.
Итого 450 сер.
ИМПЕРАТОРСКОЙ академии Художествъ механикъ и титулярной советникъ Осип Шишорин».
Напомним, что в раздираемой кланами Персии к 1795 г. старший в роде Каджаров Ага-Мухаммед-хан взял верх над конкурентами. В детстве он был оскоплен и не имел прямых наследников. Своих младших братьев рассматривал как конкурентов. Один из них, Муртаза-Кули-хан, пытался бороться, но потерпел поражение и бежал в Россию, где был радушно принят П. А. Зубовым, мечтавшим, что после смерти Ага-Мухаммед-хана Россия поможет беглецу утвердиться на престоле и тогда, в союзе с Персией, одолеет Турцию. С этой дальней целью Муртазу-Кули-хана всячески обхаживали, ему неоднократно уделяла внимание сама Екатерина П.
Муртаза обратился к Зубову с необычной просьбой. Один из его приближенных тяжело пострадал от зверства Ага-Мухаммеда — ему отрезали нос. Вид безносого перса пугал и отвращал. Муртаза попросил сделать протез. Зубов вспомнил о Шишорине, с которым уже имел ранее дело.
А. Ф. Крашенинников, в лучших традициях основанной В. В. Виноградовым «носологии» (Виноградов В. В. Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М., 1976), отмечает три ключевых обстоятельства, позволяющих предполагать знакомство Гоголя с этой историей. Во-первых, как пишет Гоголь, «коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнить с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода <…> Ковалёв был кавказский коллежский асессор». И если назван именно Кавказ, то не в связи ли с безносым персом, попавшим в Петербург через Кавказ? Во-вторых, в Газетной Экспедиции Ковалёв пытается дать объявление о сбежавшем носе, чиновник отказывает ему, но и утешает: «Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос». Механик же О. Шишорин печатал рекламные объявления в петербургских газетах. Наконец, в последней редакции «Носа» автор дописывает новый эпизод: «Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалёва, что будто он давно уже там, что когда еще проживал там Хосрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы». То есть персидский принц Хосров-Мирза, троюродный правнук Муртазы-Кули-хана, посланный в Петербург для улаживания отношений после убийства 30 января 1829 г. в Тегеране русского посла А. С. Грибоедова, удивленно наблюдает прогулки носа.
126
Приметим, сколь сильное впечатление на иностранцев производило несметное количество орденов у русских вельмож. Уже цитированный нами прежде Ф. де Миранда не без язвительности писал: «Невероятно, сколько же людей при дворе, русских и иностранцев носят награды с лентой; мне кажется, что русские и поляки имеют больше лент и орденов, чем вся остальная Европа. У большинства по две или три награды, а у одного я видел тринадцать или четырнадцать, и вдобавок мало у кого нет какой-нибудь звезды или шпор с бриллиантами».
127
Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге. СПб., 1803. С. 199. Этот выпад был направлен не столько Н. М. Карамзину, сколько В. Л. Пушкину. Отметим и то, что словарь Даля никакого «трогательного» не указывает.
128
Скорее всего, именно назначение Г. Р. Державина Президентом Коммерц-коллегии, состоявшееся в 1794 г., и стало поводом к написанию портрета.
129
Заметим впрочем, что и сам Державин теряется при решении портретной задачи. Его цикл «На изображения» куда ближе его же «Надгробиям», поскольку, к примеру, строфа «на изображение» «Князю Кантемиру, сочинителю сатир» («Старинный слог его достоинств не умалит. // Порок не подходи! — Сей взор тебя ужалит») по сути своей — идеальная эпитафия. Лишь в конце жизни и творческой биографии Гавриила Романович постулирует явственную щель меж «лирой» и «трубой», снабжая портрет И. И. Дмитриева (и отчасти, стало быть, свой «портрет») таким рифмованным комментарием: «Поэзия, честь, ум // Его были душою; // Юстиция, блеск, шум // Двора — судьбы игрою».
130
Русский мастер не может и помыслить, например, такого рода автохарактеристику: «Написан [этот портрет. — Вд.] шевалье Рослином в 1778 году. Одно из произведений, выполненных им в течение его жизни с наибольшим старанием, которое он полагает наименее слабым из всех, что сумел создать». Таким текстом сопровождает реверс портрет Марии-Кристины Австрийской (1778. Вена, Альбертина) Александр Рослин.
131
В эти же годы Державин в своем «Привратнике» виртуозно обыгрывает ту же тему приблизительно теми же приемами. Воспользовавшись анекдотическим происшествием — рядом с домом Гавриила Романовича жил священник И. С. Державин, и корреспонденция иной раз путалась, — он, начав за здравие («Но тот Державин — поп; не я: // На мне парик — на нем скуфья») и даже заканчивая, по привычке, за упокой, т. е. сызнова сказывая про «лиру» и «трубу» («Державу с митрой различай»), где-то посредине близко подходит к теме и приему Боровиковского: «А чтоб Державина со мною // Другого различал ты сам, — // Вот знак: тот млад, но с бородою, // Я стар, — юн духом по грехам. // Он в рясе длинной и широкой; // Мой фрак кургуз и полубокой. // Он в волосах, я гол главой; //Я подлинник — он список мой». Подробнее см.: Вдовин Г. В., Софронова Л. А. Мифологическое историческое время у Боровиковского и Гоголя. Заметки о темпоральности // Искусствознание’3/08.
132
См., например: Зеленин Д. К. Народный обычай греть покойников // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. XVIII. Харьков, 1909; Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX вв. М., 1957. С. 51.
133
Не зря же Андрей Белый в своем романе «Москва» (заметим, именно «Москва») услышал в нарративе слова «рококо» не только изнеженную и галантную манерность, но и «устрашающий», «гибельный», «демонический», «тревожный» и прочий в том же роде «гул рока» через навязчивый мотив «пасторали над бездной», который любому спекулятивному сознанию так хочется увязать и с подспудным рокотом фатума в творчестве московского Рокотова, и с роковой этимологией его фамилии.
134
Щукинский рецепт будет использован русской романтической и постромантической культурой не единожды. И наша отсылка к лермонтовскому тексту вовсе неслучайна. Ведь пятистопный хорей этого стиха Лермонтова — такой же предвестник пастернаковского «Гамлета» («Гул затих…»), как портрет Павла I — предвосхищение будущих романтических портретов. Значимы здесь и общие интертекстовые отсылки как к Гамлету, так и к Христу.
135
См., например: Вдовин Г. В. Образ Москвы XVIII века. Город и человек. М., 1997; Вдовин Г. В., Лежкая Л. А., Червяков А. Ф. Останкино. Театр-дворец. М., 1994
136
На протяжение ряда лет в литературных журналах публикуется эссеистическая проза Г. В. Вдовина под названием «Памяти памяти» // Новый мир. 2012, № 10, Октябрь. 2004, № 6, Октябрь № 5. 2013 г. и др.
137
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 3. Изд. 3-е. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 214.
138
Там же. С. 468.
139
Автор — ординарный профессор НИУ ВШЭ.
Автор книги - Геннадий Вдовин
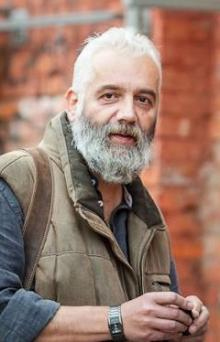
Геннадий Викторович Вдовин (1961, Москва — 6 ноября 2021, там же) — российский искусствовед, музейный работник, писатель, педагог. Доктор философии, кандидат искусствоведения. Директор Московского музея-усадьбы Останкино, около сорока лет посвятил работе в музее-усадьбе Останкино, почти тридцать из которых был его бессменным руководителем.
Общественный деятель, член комиссии «Библиотеки, архивы, музеи» при Совете по культуре Президента России, член Президиума Российского комитета Международного совета музеев, один из основателей и член ...
