Онлайн книга
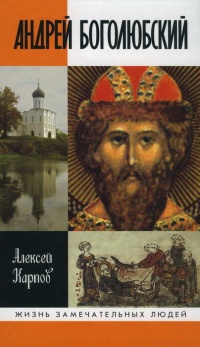
Примечания книги
1
Николай Иванович Глазков (1919–1979).
2
Заметим, что указание на возраст Андрея Боголюбского отсутствует в первой редакции «Истории» Татищева и имеется только во второй, более поздней, причём, что важно, не во всех списках, т. е. было вставлено Татищевым позднее написания основного текста.
3
Известно, что Юрий, шестой сын Владимира Мономаха, был значительно младше его пятого сына Вячеслава. «Яз тебе старей есмь не малом, но многом, — говорил сам Вячеслав Юрию в 1151 г., — аз уже бородат, а ты ся еси родил» (т. е. «я уже бородат был, когда ты родился») (ПСРЛ.Т. 2. Стб. 430). И если Вячеслав родился не ранее 1081 г. (ср.: Кучкин В.А. Чудо св. Пантелеймона и семейные дела Владимира Мономаха // Россия в средние века и новое время. Сб. статей к 70-летию В.В. Милова. М., 1999. С. 61–63), то Юрий не мог появиться на свет ранее 1095/96 г. Ноиврядли позднее 1096 г., поскольку в 1108 г., напомню, он женился, т. е., по меркам древней Руси, считался совершеннолетним.
4
Об имени «Китай», якобы полученном Андреем Боголюбским при рождении.
В исторической, равно как и в церковной литературе нередко утверждается, что князь Андрей Юрьевич, помимо крестильного, носил ещё одно имя — Китай, которое обычно объясняют половецким происхождением его матери (см., напр.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 2–3. М.: Наука, 1991. Т. 3. С. 522, прим. 26; Минея. Июль. Ч. 1. М.: Изд. совет Русской Православной церкви, 2002. С. 280; Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей… С. 12, прим., 473–474, прим.; и мн. др.). Однако это имя появляется впервые в источнике не просто позднем, но безусловно сфальсифицированном — поддельной грамоте князя Андрея Юрьевича Боголюбского Киевскому Печерскому монастырю: «Се аз, великий князь Китай, нареченный в святом крещении Андрей Юрьевич, внук Володимиров Мономахов, правнук же Изяславов (так! — А. К.)…», или, в другом списке: «Се аз, великий князь Андрей, по мирску Китай Юрьевич…» (см.: Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок… Киев, 1826. Прибавление 1. С. 1; Затилюк Я. Грамота Ащцмя Боголюбського Киево-Печерському монастирю // Rutheniса. Вип. 7. Киев, 2008. С. 231; о других списках грамоты: Русакова Ю.М. Источниковедческий аспект исследования «Грамоты» князя Андрея Боголюбского: Обзор списков сфальсифицированного документа // Мир в новое время. Сб. материалов Восьмой конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по проблемам мировой истории XVI–XXI вв. СПб., 2006. С. 165–170). То, что грамота была сфальсифицирована (предположительно, в XVI в.), сомнений не вызывает; в общих чертах ясны и мотивы фальсификации (см. хотя бы: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. С. 302–303). Но каким образом в неё попало имя Китай? Как полагает С.М. Каштанов, это могло произойти в результате визита печерских старцев в 1583 и 1585 гг. в Москву, «где они услышали название “Китай-город” и своеобразно использовали его при составлении грамоты» (Каштанов С.М. Об авторстве подложной грамоты Андрея Боголюбского Киево-Печерскому монастырю // Восточная Европа в древности и средневековье. XXI Чтения памяти В.Т. Пашуто. Материалы конференции. М., 2009. С. 127). Думаю, что скорее стоило бы обратить внимание на название Китаевской пустыни (Китаевского монастыря) близ Киева, которое могло дать импульс появлению легенды. (Не случайно в Киеве распространено мнение, что именно в районе этой пустыни якобы находился дворец Андрея Боголюбского.) Но в любом случае «мирское» имя «Китай Юрьевич» надо признать такой же несообразностью документа, как и имена «прадеда» Андрея князя Изяслава Ярославича (вместо Всеволода) и константинопольского патриарха «Кир Сильвестра», будто бы благословившего княжеское пожалование (такого патриарха во времена Боголюбского не существовало), или сам факт киевского княжения Андрея и его присутствие в Киеве во время смерти отца. Между тем имя Китай применительно к Андрею Боголюбскому попало из текста грамоты в другие позднейшие сочинения — в частности, в Киевский Синопсис XVII в. (Киевский синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев. Киев, 1836. С. 114) и один из вариантов «Повести о начале Москвы» (в списке третьей четверти XVIII в.), где по имени «Андрея Боголюбиваго… его же прежде бысть имя Китай дано», получает название построенный Юрием Долгоруким «град мал древян», т. е. в данном случае Китай-город в Москве (Повести о начале Москвы / Исслед. и подг. текстов М.А. Салминой. М.; Л., 1964. С. 197–198), а также в надпись на серебряной гробнице князя во владимирском Успенском соборе (Доброхотов В.И. Памятники древности во Владимире Кляземском. С. 30).
5
Здесь же следует сказать ещё об одной черте Андрея Боголюбского, гипотетически приписываемой ему на основании изучения его костных останков. Д.Г. Рохлин и В.С. Майкова-Строганова отмечали, что «проявления старения» князя «частично ослаблялись благодаря наличию некоторых ювенильных особенностей» его организма, и, в частности, писали об «отчётливых признаках конституционального гипертиреоидизма (чрезмерной активности щитовидной железы. — А. К.)ъ комбинации со вторичным субгенитализмом». И далее: «…Реакции Боголюбского были своеобразно окрашены… Лёгкая возбудимость, живая фантазия, в то же время быстрая раздражимость и бурные реакции даже на незначительные раздражения — таков он был в течение всей своей жизни…» (Рохлин Д. Т., Майкова-Строганова В.С. Рентгено-антропологическое исследование скелета Андрея Боголюбского. С. 156–158; Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 264, 269; с этим последним выводом соглашается и В.Н. Звягин: Великий князь Андрей Боголюбский…). Мне, однако, кажется, что на выводы исследователей в первую очередь повлияли их оценки «костного» возраста князя, явно не совпадающие со временем его рождения, если принимать на веру известия В.Н. Татищева. Ср. высказывание на этот счёт сотрудников Института этнологии и антропологии РАН и кафедры антропологии биологического факультета МГУ, последними изучавших костяк князя: «С нашей точки зрения эти представления (о гипертиреоидизме, субгенитализме и т. п. — А. К.) продиктованы знакомством с летописными сведениями о характере князя и желанием объяснить разницу между календарным (отнюдь не точным) и биологическим возрастом. Визуально никаких ювенильных особенностей нами зафиксировано не было» (Васильев С.В. и др. Антропологическое исследование… С. 69). Между тем, опираясь на наблюдение Д.Г. Рохлина, современный историк домысливает уже совершенно фантастическую и не имеющую ни малейшей опоры в источниках, я бы сказал даже, оскорбительную для памяти князя картину, касающуюся якобы имевших место отклонений в его сексуальном поведении (Кривошеее Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского. С. 109–110). Подчеркну ещё раз, что в данном случае речь идёт исключительно о фантазии историка. Для оценки же сексуального поведения князя достаточно напомнить, что он имел по меньшей мере шесть взрослых детей (четырёх сыновей и двух дочерей) — и это не считая тех, которые, вероятно, умерли при рождении или в раннем детстве.
И ещё одно наблюдение, касающееся возможных физических особенностей князя. Исходя из «асимметрии длинных трубчатых костей по длине и массивности», проф. В.Н. Звягин высказал предположение о том, что князь, возможно, был левшой. Впрочем, по его же словам, эти особенности могли проявиться и позднее, учитывая полученную князем «травму правого плече-лучевого сустава» (Звягин В.Н. Великий князь Андрей Боголюбский…).
6
Отмечу, что В.Н. Татищев точно датировал расправу Юрия с боярином Кучкой, как и брак Андрея с Кучковной 1147 г. — годом первого упоминания Москвы в летописи {Татищев. Т. 1. М., 1994. С. 375; Т. 2. С. 171; Т. 4. С. 105, 207); по мысли историка, «для онаго веселия» Юрий и пригласил на берега Москвы князя Святослава Ольговича. Так описанная в «Повести о начале Москвы» легендарная история была искусственно включена в летописное повествование. М.П. Погодин относил женитьбу Андрея ко времени около 1135 г., причём на основании тех же летописных данных о браке его дочери и военных предприятиях сына (Погодин М.П. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский // Журнал Министерства народного просвещения. 1849. Сентябрь. С. 148).
7
В позднем Житии князя Глеба Андреевича (составленном на рубеже XVII–XVIII веков или в начале XVIII века) упоминается ещё один его брат, Владимир, бывший будто бы старшим сыном Андрея Боголюбского и умерший при жизни Глеба. В других источниках такой князь не значится; предполагать, будто у составителей Жития имелся какой-то неизвестный нам древний источник, оснований нет, а потому данное известие едва ли можно признать заслуживающим доверие.
Житие князя Глеба Андреевича остаётся неизданным. Я пользовался списком 10-х гг. XVIII в.: ГИМ. Увар. № 1933. Л. 57 об. — 80 (упоминание Владимира как старшего Андреевича: Л. 61). В литературе можно встретить указание на то, что у Андрея Боголюбского якобы было даже шестеро сыновей: к упомянутым четырём и мифическому Владимиру прибавлен ещё и Роман (напр.: Соколов А. Н., прот. Первый собиратель великой Руси…С. 301, со ссылкой на «Алфавитный указатель, или Ключ» П.М. Строева к «Истории…» Н.М. Карамзина). Но этот мифический Роман обязан своим возникновением ошибке, допущенной в новгородском «Слове о Знамении Пресвятой Богородицы», где речь идёт о походе на Новгород Андреева сына Мстислава (см. об этом ниже, прим. 67 к части 3).
8
Ростислава — в основном тексте «Истории Российской», но только во второй редакции (Татищев. Т. 3. С. 70); Мария — в «родословии государей русских» (Т. 1. С. 375; Т. 4. С. 105).
9
В.Н. Татищев называл вторую жену князя «ясыней» (т. е. осетинкой) или «княжной ясской» (Т. 1. С. 375; Т. 4. С. 105). С этим мнением соглашается Ю.А. Лимонов, обративший внимание на факт отъезда младшего сына Боголюбского Юрия после смерти отца в Половецкие степи, а оттуда на Кавказ, а также на появление в окружении Боголюбского в последние годы его жизни некоего «ясина» Анбала (Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь… С. 95). Однако первое из указанных обстоятельств скорее можно было бы рассматривать как свидетельство того, что матерью Юрия Андреевича была половчанка. В другом месте своей «Истории…» В.Н. Татищев допускает, что последняя жена Андрея Боголюбского могла быть его третьей супругой, «но чия дочь была, неизвестно, а более по казни ея (Всеволодом Юрьевичем, после гибели Боголюбского. — А. К.) мнится, не княжеская дочь» (Татищев. Т. 4. С. 449–450). Отмечу ещё, что в подложной грамоте Андрея Боголюбского Киевскому Печерскому монастырю супруга князя именуется «великою княгинею Настасьею» (Затилюк Я. Указ. соч. С. 234), но данный источник, как уже говорилось, полностью недостоверен.
10
«Егда же ходи на болгоры, — пишет В.Н. Татищев под 1164 г. в первой редакции «Истории Российской», — преставися благоверная княгиня его» (Татищев. Т. 4. С. 268). В рукописи эти слова были приписаны позднее; во второй, значительно более распространённой редакции «Истории…» их нет.
11
В исторической литературе встречаются смутные указания на то, что в юности Андрей якобы побывал на Православном Востоке, в частности в Константинополе и даже Иерусалиме. Но никакими источниками это не подтверждается.
12
Любопытно, что в Никоновской летописи XVI в. в рассказе об этих событиях место воеводы Жирослава в качестве предводителя половцев занял какой-то Темир-Хозя («…И с великого страха и половци бежаша с воеводою с своимь Темирьхозею, и прочая вся воинства бежаша, точию един князь Андрей Юрьевичь мало укрепися с дружиною своею, но и тии страхом обдержими хотяще бежати»: ПСРЛ. Т. 9. С. 181). Имя Темир-Хозя (Темир-Ходжа), или просто Темир, — излюбленное для обозначения в этой летописи различных печенежских, половецких и татарских князей и послов.
13
Так в Лаврентьевской летописи. В Ипатьевской не вполне ясно: «Ярославча смерть Изяславича». Возможно, Андрей вспоминал о другом князе: Ярославе (Ярославце) Святополчиче, внуке Изяслава Ярославича, погибшем от рук убийц при осаде Владимира-Волынского в 1123 г. Именно так («Се хощет ми быти смерть Ярослава Святополчича») переданы его слова в Московском летописном своде конца XV века и Воскресенской летописи (ПСРЛ. Т. 25: Московский летописный свод конца XV века. М., 2004 (репринт изд. 1949 г.). С. 47; ПСРЛ. Т. 7. С. 47).
14
В.Н. Татищев, с крайней неприязнью отзывавшийся о Ростиславе Юрьевиче, считал его главным виновником княжеской распри: «Сей князь Ростислав желал всею Русью един обладать, для того, отца своего на братию и сыновцы возмущая, многи беды и разорения Руской земле нанес и более хотел учинить…» Мало того, по словам историка XVIII века, князь злобствовал не только в отношении противников своего отца, «но и единородным братьям своим надлежащих уделов дать не хочет (намёк на будущее лишение Андрея удела? — А. К.) и рад всех князей в един день погубить…» (Татищев. Т. 3. С. 26, 14). Впрочем, сам Андрей в ходе переговоров о мире сетовал на «злобы» другого князя — «советника» своего отца Юрия Ярославича.
15
В.Н. Татищев (Т. 3. С. 17) пишет о личном участии Андрея в походе на турпеев, но из летописного рассказа это не следует.
16
Владимирко прислал к Андрею князя Василька Ярополчича, но что это за князь, неизвестно.
17
Точная дата битвы на Руте неизвестна. Она случилась в субботу, во второй половине мая или июне. По расчетам Н.Г. Бережкова, с наибольшей вероятностью это могло быть 26 мая (Бережков. С. 153–154). М.С. Грушевский называл пятницу (этим днем недели битва датирована в Лаврентьевской и Воскресенской летописях) 6 июля или во всяком случае первую половину июля (Грушевський М.С. Iсторiя Украïни-Руси. Т. 2: XI–XIII вж. Киïв, 1992. С. 171, прим. 1).
18
Далее же, как и в других летописях, в Никоновской сообщается о предложении Андрея приступать к городу поочерёдно во главе войск: «Сотворим по днемь, приходяще под град биемся, и се уже аз преже начало положу самь, и день мой се есть», то есть приводится обычная версия событий, как всегда слегка приукрашенная.
19
В Никоновской летописи сообщается, что мор был «не точию в конех, но и в воинстве их».
20
В основе этой речи — та речь Андрея, которая помещена в Никоновской летописи в связи с событиями более ранними, происходившими под Переяславлем летом 1151г. (см. выше: ПСРЛ. Т. 9. С. 190).
21
Надо полагать, от греческого πυργωτισσα, то есть «Башенная». Так могли назвать в Константинополе икону знаменитого Влахернского храма, несшую на себе изображение семибашенного Влахернского монастыря. См.: Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Т. 2. Пг., 1915. С. 72; Лихачёв Д.С. «Пирогощая» «Слова о полку Игореве» // он же. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 220–222.
22
Мнение о том, что название иконы Пирогощей следует производить от личного имени (только не Пирогоша, а Пирогост), принимают и некоторые современные исследователи (см.: Кучкин В. А., Сумникова Т.А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М, 1996. С. 476–477). Но едва ли и киевская церковь, заложенная вскоре после прибытия иконы («Пирогощая»), могла называться по имени привезшего икону человека. В позднем Житии Андрея Боголюбского XVIII в. приведена легендарная дата появления иконы на Руси — 6650 (1142) г. (ГИМ. Увар. № 2081. Л. 17; Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 223).
23
Очевидно, что Житие, составленное в начале XVIII в., послужило источником для Летописи Аристарха. Однако в доступном нам списке Жития рассказ об этих событиях уже несколько поновлён по сравнению с рассказом Летописи (напр., добавлено имя иерея, к которому обратился Андрей, — Николай).
24
По преданию, тогда же князь Андрей Юрьевич установил празднование в память явившейся ему Божией Матери — 18 июня, присутствующее и в современном церковном календаре как день памяти Боголюбской иконы. Однако в русских месяцесловах это празднование встречается лишь с начала XIX века; в выписках из святцев конца XVII века указана другая дата — 27 марта (Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1997 (репринт изд.: Владимир, 1901). Т. 2. С. 184, 88). Какие именно события в истории Боголюбской иконы эти даты имеют в виду, неизвестно.
25
Об этом сообщает надпись на боковых сторонах золотого ковчежца из Троице-Сергиевой лавры конца XV — начала XVI в., упоминающая среди прочих находящихся здесь святынь «миро Святыя Богородици Бо[го]любьское» (Стерлигова И.А. Боголюбская икона Богоматери в XII–XIII вв. // Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: Искусство и культура. СПб., 2002. С. 191).
26
В издании В.А. Кучкина и Т.А. Сумниковой: «При сраме есть», без указания на какие-либо разночтения. В.П. Гребенюк же даёт чтение: «Не при сраме есть…», исправляя основной список Сказания по т. н. Академическому списку XVI или XVII в. (РГБ.Ф. 173. № 96): Гребенюк В.П. Первое сказание о национальной святыне Русской земли — иконе Владимирской Богоматери // Русская словесность. 1993. № 3. С. 13–14. Так же («Не при сраме…») и в списке Милютинских четьих миней XVII в., изданном В.О. Ключевским: Сказание о чудесах Владимирской иконы… С. 41.
27
Дата завершения строительства — 1157 г. — приведена в т. н. Летописи Авраамки конца XV в.; здесь же о том, что церковь была поставлена «князем Георгием», т. е. Юрием: ПСРЛ. Т. 16. М., 2000 (репринт изд. 1889 г.). Стб. 45.
28
По мнению Ю.А. Лимонова, напротив, ошибочна дата, указанная Тверской летописью (Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. С. 23–24).
29
Об этом сообщают только позднейшие источники, в частности украинская т. н. Густынская летопись XVII в. (ПСРЛ. Т. 40. СПб., 2003. С. 82) и В.Н. Татищев (Т. 2. С. 171). С другой стороны, нельзя исключать того, что именно Михаил, уже отошедший от дел, упоминается под именем Mιχαηλ. 'Pωσιας в синодальном постановлении константинопольского патриарха Михаила III от 24 марта 1171 г. (ср.: Поппэ А.В. Митрополиты киевские и всея Руси // Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 199–200; по мнению польского исследователя, в данном постановлении упомянут киевский митрополит Михаил II (или Михаил III), русским источникам не известный).
30
В данном случае не была использована ни Радзивиловская, ни Московско-Академическая, ни какая-то иная близкая к ним летопись. Это видно из того, что Татищев считал, что церковь Святого Спаса, завершённая Андреем, находилась в Суздале, — в то время как в указанных летописях определённо говорится о церкви в «Переяславле Новом». В более поздней второй редакции «Истории» Татищева дата вокняжения Андрея трансформировалась в 1 июля (см. след. прим.).
31
Далее Татищев — вероятно, осознанно — меняет смысл летописного источника. Вместо читающегося в летописях: «…и по смерти отца своего велику память створи…» у Татищева: «Он же, возшед на престол, великую себе память зделал…»
32
Это, вероятно, тот самый мор «в людях», конях и «рогатом скоте», о котором под следующим годом рассказывает новгородский летописец (НПЛ.С. 30).
33
В Ипатьевской летописи: «Мьславль (Мстислава?) Володимирича» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 501). Но это результат порчи текста: конечное «м» в редком для летописи слове «отчим» было воспринято переписчиком как начальная буква имени князя, написанного, вероятно, с титлом. Верное чтение в Московском летописном своде конца XV в.: ПСРЛ. Т. 25. С. 65.
34
Таков смысл рассказа Ипатьевской летописи. В поздних летописных сводах, напротив, сообщается, что Глеб проводил княгиню «Изяславлюю» до Гомеля.
35
Даже несмотря на то, что его дочь приходилась троюродной сестрой жениху, так что с канонической точки зрения брак между ними выглядел несколько сомнительно. (См.: Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Внутридинастические браки между троюродными братьями и сестрами в домонгольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2012. № 3 (49). С. 47–53.)
36
По сведениям В.Н. Татищева, свадьбу «с веселием многим» сыграли в каких-то Вереищах (Татищев предполагал даже, что речь идёт о Верее — городе на Протве, на западе нынешней Московской области); см.: Татищев. Т. 4. С. 257 (первая редакция); Т. 3. С. 70 (вторая редакция, с дополнительными подробностями; здесь же приведено и имя Андреевны — Ростислава, а в т. н. Воронцовском списке второй редакции добавлено известие о том, что тогда же Андрей «град на реке Ламе», т. е., надо понимать, Волоколамск, строил). Упомянутые Вереищи — скорее всего, не что иное, как испорченное название города Вщиж, где сидел Святослав Владимирович (ср., напр., в Никоновской летописи: ПСРЛ. Т. 9. С. 216). Отметим, кстати, что две версии одного и того же рассказа Ипатьевской летописи об осаде Вщижа бьши восприняты Татищевым как рассказ о двух осадах города: во второй раз князья якобы приступили к нему, узнав об уходе Изяслава Давыдовича и Андреева сына; тогда-то Святослав Владимирович и заключил с ними мир на их условиях.
37
В Никоновской летописи (ПСРЛ. Т. 9. С. 218) читаем, что князь Ростислав Мстиславич, обороняя Киев от Изяславовой рати, «не имяше… помощи ниоткуду же, разве точию со князем Андреем», причём в одном из списков — Лаптевском — добавлено даже: «Андреем Юрьевичем» (там же, прим. н). Но это конечно же ошибка; правильное чтение должно быть: «Андреевичем»: речь идёт о князе Владимире Андреевиче, союзнике Ростислава (ср. в Воскресенской летописи: ПСРЛ. Т. 7. С. 74).
38
В младшем изводе Новгородской Первой летописи новый посадник ошибочно назван Озарией (в списке посадников: Озария Феофилактович) (НПЛ.С. 218, 472).
39
Наиболее полное выражение легенда об основании города Владимиром Святым получила в Никоновской летописи XVI в. Нередко считают, что легенда эта возникла именно при Андрее Боголюбском как результат целенаправленной работы его книжников, стремившихся удревнить историю христианства в своей земле и историю родного города; см.: Воронин Н.Н. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг (Из истории русско-византийских отношений XII в.) // Византийский временник. Т. 21. М.; Л., 1962. С. 32; он же. «Житие Леонтия Ростовского» и византийско-русские отношения второй половины XII в. // Византийский временник. Т. 23. М., 1963. С. 33–34; и др. В Лаврентьевской летописи под 1176 г. действительно сообщается, что «постави… преже град-ось великий Володимер» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 378). Если речь идёт о Владимире Святославиче, то это и в самом деле первое зафиксированное источниками бытование будущей легенды. Но твёрдой уверенности в том, что автор имел в виду именно Владимира Святого, а не Владимира Мономаха (также иногда именовавшегося «великим»), у нас нет.
40
В Типографской летописи завершение росписи храма датируется 31 августа (ПСРЛ. Т. 24. С. 79).
41
В соответствующем рассказе Ипатьевской летописи упоминается «город ея» (в единственном числе): ПСРЛ. Т. 2. Стб. 599. См. также: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 470 («град Святыя Богородица Гороховец», под 1239/40 г.). О богатстве Владимирской церкви (равно как и возведённой позднее суздальской Рождества Богородицы) писал в 20-е гг. XIII в. епископ Владимиро-Суздальский Симон в послании печерскому постриженнику Поликарпу: «…Сколько имеют градов и сёл, и десятину собирают по всей земле той!» (Патерик. С. 103). Здесь же, пожалуй, уместно будет заметить, что в литературе высказывалось предположение, согласно которому текст т. н. Церковного устава князя Владимира (сохранившийся в списках не ранее XIV в.) окончательно сложился во Владимире и именно в годы княжения Андрея Боголюбского (см.: Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XII вв. М., 1973. С. 130–133).
42
Татищев. Т. 4. С. 444–445, прим. 341; Т. 3. С. 244–246, прим. 483; С. 295, прим. 12–12 (со ссылкой на «Степенную», где будто бы говорилось, что «мастеры же… присланы были от императора Фридерика Барбароссы, с которым Андрей дружбу имел»; впрочем, известные нам списки Степенной книги данного сообщения не содержат).
43
В 1475 году, готовясь к возведению московского Успенского собора, Владимирскую церковь осматривал знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. Он дал ей высокую оценку: «…похвали дело, рече: “Неких наших мастеров (итальянских? — А. К.) дело”» (ПСРЛ. Т. 6: Софийская Вторая летопись. СПб., 1853. С. 199. Ср. также: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… Т. 1. С. 331). Эта профессиональная оценка, несомненно, заслуживает внимания, хотя надо учитывать и то, что Аристотель осматривал собор, перестроенный в 80-е годы XII века, при князе Всеволоде Большое Гнездо, причём, как свидетельствует летопись, именно русскими зодчими. Но какие-то архитектурные особенности Владимирского храма могли показаться Аристотелю знакомыми.
44
В Ипатьевской летописи собор Андрея Боголюбского назван пятиглавым («…сверши же церковь 5 верхов, и все верхы золотом украси…»; и т. д.). Это дало основание ряду современных исследователей пересмотреть традиционную реконструкцию Андреева храма как одноглавого, предположив, что он с самого начала действительно имел пять глав [См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 491, 582 (в рассказе об убийстве Андрея Боголюбского), 630 (в сообщении о пожаре и разрушении церкви в 1184 г.)]. Думаю, однако, что в Ипатьевской летописи мы имеем дело с более поздней правкой летописного текста, принадлежащей редактору, знавшему о пятиглавии Владимирского собора, перестроенного Всеволодом Большое Гнездо. Это правка того же рода, что и добавление «владимирцев» в перечень жителей тех городов, которые избрали Андрея на ростовское княжение (см. выше).
Изначальное пятиглавие Андреева храма обосновывается в исследованиях Т.П. Тимофеевой (причём именно на основании свидетельств Ипатьевской летописи), чьё мнение было поддержано С.В. Заграевским (Тимофеева Т.П. К вопросу о пятиглавии Успенского собора Андрея Боголюбского во Владимире // Памяти Андрея Боголюбского. С. 83–94; Заграевский С.В. Успенский собор во Владимире: некоторые вопросы архитектурной истории // Там же. С. 100–104). Проанализировав свидетельства различных летописей, исследовательница пришла к выводу, что первоначальное чтение «верхы» (присутствующее, помимо Ипатьевской, ещё в Рогожском летописце XV в.: ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. М., 2000 (репринт изд. 1922 г.). Стб. 22) при переписке в Лаврентьевской и прочих летописях ошибочно превратилось в «верхъ», что дало также чтение «об едином верее» ряда более поздних летописей: Тверской, Воскресенской и пр. Однако удивительным образом из поля зрения исследовательницы выпало прямое свидетельство новгородской статьи «А се князи русьстии» относительно числа глав Андреева собора: «заложи… церковь камену Святыя Богородиця о едином верее… — сообщает автор (правда, ошибочно называя дату закладки собора: 8 мая вместо правильного 8 апреля), — и верх ея позлати», и ниже добавляет, что брат Андрея Всеволод Юрьевич «пристави Святей Богородици 4 верхы и позлати» (НПЛ.С. 467–468). Это свидетельство независимо от Лаврентьевской летописи; оно-то и дало чтение «об едином верее» более поздних летописей. Признать его результатом случайной ошибки или описки летописца невозможно, и это рушит источниковедческую основу построений Т.П. Тимофеевой. Чтение же Ипатьевской летописи логичнее всего признать результатом вмешательства в текст позднейшего редактора, знавшего о пятиглавии Владимирского собора, перестроенного Всеволодом Юрьевичем. Прочие аргументы исследовательницы — соперничество Успенского собора с Киевской Софией, сомнения в том, что Андрей мог довольствоваться одноглавым храмом, — носят субъективный характер. Не показались мне убедительными и дополнительные аргументы С.П. Заграевского: то, что собор, вероятно, пришёл в аварийное состояние ещё до пожара 1184 г. (см. ниже), не обязательно было вызвано его пятиглавием, но могло иметь и иные причины.
45
Так называемый «надгробный лист», помещённый в середине XVII в. в Успенском соборе над гробницей Андреева сына Изяслава: Сиренов А.В. Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирский в истории, житиях, легендах. СПб., 2003. С. 76.
46
Как отмечает современный исследователь, есть следы того, что собор пришёл в аварийное состояние ещё до пожара 1184 г.: выявлен наклон его центральной главы на 2,5 градуса к востоку, что могло повлечь за собой сдвиг всего здания. Это и пришлось исправлять мастерам Всеволода Большое Гнездо (Заграевский С.В. Успенский собор во Владимире… С. 101–102).
47
Здесь же предположительно называется и крестильное имя Ростислава Юрьевича — Николай (равно как и столь же предположительные крестильные имена его сыновей). Ранее знак на Золотых воротах считался принадлежащим Андрею Боголюбскому (Рыбаков Б.А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X–XII вв. // Советская археология. Т. 6. М.; Л., 1940).
48
На миниатюре Лицевого летописного свода XVI в. изображено полное обрушение самого свода Золотых ворот. Однако исследователи признают достоверной версию наиболее раннего источника — Сказания о чудесах Владимирской иконы; см.: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси… Т. 1. С. 132–133.
49
В других летописях основание церкви датируется 1160 или 1162 г.; см.: ПСРЛ. Т. 9. С. 221; ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] С. 224.
50
Монастырь Святого Спаса у Золотых ворот известен и по летописным рассказам. В частности, его игумен Феодосии погиб во время взятия Владимира татарами в 1238 г.
51
«Боголюбое» упоминается и в списке русских городов («А се имена всем градом русским, дальним и ближним»), составленном в Новгороде в XV в., в числе городов «Залесских» (НПЛ.С. 477).
52
При этом автор ошибается и в календарной дате основания владимирского Успенского собора: «…И потом минуло 11 лет, и угобзися святому Андрею нива душевная, и положися ему большаа мысль в сердце, и начя съзидати другый град Володимер, и заложи третьюю церковь камену Святыя Богородиця о едином верее, месяца маиа в 8, на память святого Иоанна Богослова, и верх ея позлати…» (НПЛ.С. 467). В Кратком Владимирском летописце закладка Успенского собора и каменных ворот во Владимире датируется столь же маловероятным «10-м летом» княжения Андрея.
53
Летопись Боголюбова монастыря… С. 3–5. Текст восходит к Житию князя Андрея Боголюбского. Отметим, однако, важное разночтение. В одной из двух известных нам копий полного Жития текст читался близко к тому, что пишет игумен Аристарх: «…и церковь каменную на показанном Богоматерию месте соверши… в ней же чудотворный Пресвятыя Богородицы образ, иже из Вышеграда принесе с собою, и новонаписанный в подобие явлыпияся ему Богоматере образ, нареченный Боголюбивыя, постави и освяти оную церковь…» (Доброхотов В.И. Древний Боголюбов город и монастырь… С. 7). Точно такое же чтение содержится и в сокращенной редакции Жития князя Андрея (ГИМ. Увар. № 2081. Л. 24; см. Приложение 3). В другом же списке Пространной редакции Жития упоминание о том, что Владимирская икона была положена в Боголюбове монастыре, опущено (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 227–228; ср. С. 213).
54
В Житии Андрея Боголюбского, основном источнике этой части Летописи Боголюбова монастыря, путешествие Андрея с иконой из Вышгорода во Владимир ошибочно отнесено к тому же году, что и смерть отца Андрея князя Юрия Долгорукого. Очевидно, автор летописи, основываясь на относительной хронологии своего источника и зная год смерти Юрия Долгорукого, проставил эту дату, равно как он проставил и остальные ранние даты в истории обители (в Житии их нет).
55
В литературе эта церковь нередко именуется церковью Св. Леонтия Ростовского (Воронин Н.Н. «Житие Леонтия Ростовского»… С. 30; Фронте И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 636 (с рядом далеко идущих выводов); Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 210, 211, 218; и др.). Но это неверно: канонизация святителя Леонтия Ростовского произошла позднее, при князе Всеволоде Большое Гнездо; с историей же Боголюбовской иконы и Боголюбского монастыря оказалась связана память св. мученика Леонтия (Финикийского).
56
Напомню, что в Тверской и Львовской летописях сообщалось о завершении Андреем строительства в Суздале церкви Святого Спаса (см. выше, прим. 39), но это известие признаётся ошибочным. В составленном же в XVIII в. Житии князя Андрея Боголюбского говорится о том, что в момент смерти младшего сына Глеба Андрей пребывал в Суздале: «Таже поиде во град Суздаль, да и тамо церкви Божия возобновит, обветшали бо беша… И святыя церкви, такожде и град (Суздаль) усердие обновляющу…» (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 232).
57
ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2]. Стб. 233 (Тверская); ПСРЛ. Т. 20. С. 122 (Львовская): «Того же лета заложена бысть церкви камена в Ростове князем Андреем; ту же обретоша святого Леонтия в теле». Освящение собора датируется в обеих летописях следующим, 1162 г. (в Львовской это известие приписано внизу листа). В Никоновской летописи и о ростовском пожаре, и о закладке новой церкви, и об обретении мощей, и об освящении храма сообщается под 1162 г., причём в текст летописи включена значительная часть Жития св. Леонтия (ПСРЛ. Т. 9. С. 230–231).
58
Эта дата приведена в поздней (т. н. Четвёртой) редакции Жития св. Леонтия, согласно которой копать рвы для будущего храма начали в 1164 г., когда и были обнаружены мощи святого, а завершено строительство и установлена гробница св. Леонтия в храме лишь в 1170-м (см.: Титов А.А. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского. М., 1893. С. 7, 9; в ранних редакциях Жития дат нет). Поздняя дата обретения мощей — 1164 г. — принята и в современных церковных месяцесловах.
59
Показательно, что в этой же Второй редакции Жития, в похвале святителю Леонтию, прямо цитируется памятник русской агиографии киевского времени — Проложное житие князя Владимира, Крестителя Руси: «…Хвалит бо Римская земля Петра и Павла, Греческая земля — Костянтина царя, Киевская земля — Володимера князя, Ростовская земля тебе, великый святителю Леонтие, ублажаеть, сътворшаго дело равно апостолом…» (Ср. в Житии Владимира: «Да како тя възможем по достоянию похвалити, створыпаго дело равьно апостолом. Хвалить убо Римьская земля Петра и Павла, Асья Иоана Богословьца, Епопьтьская Марка, Антиохииская Луку, а Грецкая Андрея. Вся же Русьская земля тебе, Володимире…»; цит. по: Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. С. 428–429). Фраза из Жития, в свою очередь, восходит к «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона; ср.: БЛДР. Т. 1: XI–XII вв. СПб., 1997. С. 42 (подг. текста А.М. Молдована, пер. диакона А.И. Юрченко).
60
Епископ Симон называет Леонтия первым среди епископов, вышедших из стен Печерской обители («се бысть первый престолникь»), и приводит его имя раньше имени митрополита Илариона, занявшего киевскую кафедру в 1051 г. (Там же). Это даёт некоторые основания датировать поставление Леонтия временем ранее 1051 г. (т. е. в отсутствие митрополита в Киеве). По-другому начало святительства Леонтия относят к 60-м или даже 70-м гг. XI в. (напр.: Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси… С. 46–47, 211).
61
Слова «бывшего игумена Владычня монастыря», а также «хотя не был учен, но гордостию надмен» вписаны позднее в Воронцовский список второй редакции «Истории Российской» (Там же. С. 280, 281). Фраза о том, что «некто Леонтий купил у митрополита за деньги епископию суздальскую», имеется и в первой редакции «Истории…» (Там же. Т. 4. С. 261).
62
Если учесть, что предыдущее известие о Леоне в Ипатьевской летописи имеет суздальское происхождение, а данное, под 6670 г., — несомненно, южнорусское, то можно было бы предположить, что сводчик летописи продублировал одно и то же известие из разных источников; иными словами, речь в обоих случаях идёт об одном и том же изгнании Леона князем Андреем Юрьевичем. Этого, конечно, исключать нельзя (ср.: Там же). Однако необходимо учитывать, что известие Ипатьевской летописи под 6670 г. главным образом имеет в виду изгнание Андреем Боголюбским младшей братии, и в числе названных по имени фигурирует князь Василько Юрьевич. Между тем Василько не мог быть изгнан из Суздальской земли ранее 1161 г., поскольку только в этом году он покинул Торческ и вернулся к старшему брату (см. выше).
63
См.: Рорре A. Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. S. 154–155 (греческий перечень епархий (Notitia episcopatuum), датируемый 70-ми гг. XII в., т. е. как раз интересующим нас временем; сохранился в афонской рукописи XII — начала XIII в.). Отметим также наименование суздальской церкви «епискупьей» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 580). В русских перечнях епархий XII–XIII вв., напротив, значится кафедра в Ростове: напр., в т. н. Замойском сборнике XV в. (Щапов Я.Н. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1986. Вып. 2. С. 140; он же. Государство и церковь Древней Руси… С. 38, прим. 69) и Новгородской Первой летописи младшего извода (НПЛ.С. 164).
64
Слова «скажем вмале» можно воспринимать и как свидетельство того, что у летописца имелся более пространный текст, которым он воспользовался.
65
В литературе высказывалось предположение, что данное послание в действительности принадлежит Феодосию II, греку, бывшему игуменом Печерского монастыря в середине XII в. (t 1156), а адресатом его является киевский князь Изяслав Мстиславич (см., напр.: Висковатый К.К. вопросу об авторе и времени написания «Слова к Изяславу о Латынех» // Slavia. 1939. RoC. 16. Set. 4. S. 535–567). Однако следует принять во внимание, что в заголовке памятника его адресат обозначен определённо как Изяслав, «сын Ярославль, внук Володимерь», а автор следующего в сборниках и тесно связанного с предыдущим Послания «о вере крестьянской и о латынской» («Того же Феодосия к тому же Изяславу») прямо назван «святым». Да и обсуждаемый в рассматриваемом нами послании вопрос — о пользе поста в среду и пятницу в обычные, непраздничные дни — был актуален скорее в XI, чем в XII в.
66
Или, ещё яснее, в другом месте: «А от Рожества Христова и до Обрезания Господня (1 января. — А. К.)… в среду и в пяток мяса ясти, и доиво (молоко. — А. К.) и питие в меру…» (Смирнов С.И. Материалы для истории дрèвнерусской покаянной дисциплины. Тексты и заметки. М., 1912. С. 113: «Заповедь святых отец к исповедающимся сыном и дщерям» — памятник, приписываемый митрополиту Георгию Греку).
67
Непосредственно перед этим известием в летописи читается «Повесть о происхождении честного креста месяца августа в 1-й день», в которой присутствует имя ростовского епископа Нестора, но которая к 1157 г. относиться никак не может (см. об этом ниже). Вероятно, имя Нестора появилось именно потому, что в «Повести…» оно упомянуто, а уже под следующим, 1158 г. сообщается о приходе в Ростов нового епископа Леона (Там же. С. 214). Мотивы же удаления Нестора фактически совпадают с теми, которыми в более ранних летописях объясняется удаление Леона. Заметим также, что и относительно изгнания Леона, и относительно изгнания Нестора совпадают слова летописца о «клевете» или «прельщении» «от своих домашних» (ср.: Там же. С. 207, 221). В литературе утвердилось мнение, согласно которому в Никоновской летописи в ряде случаев (в том числе и в данном) произошло замещение имени Леона именем Нестора, так что сообщаемое о втором имеет отношение к первому (см. подробно: Соколов Пл. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. Киев, 1913. С. 98–134; и также ниже). В качестве иллюстрации произвольного обращения авторов Никоновской летописи с именами тогдашних церковных иерархов приведу такой пример: рассказывая под 1162 г. об обретении мощей св. Леонтия Ростовского, летописец заодно сообщает и об установлении его памяти «Иваном, епископом Ростовским», «благословением Феодора, митрополита Киевского и всея Руси» (ПСРЛ. Т. 9. С. 230–231). Но это вопиющий анахронизм: канонизация св. Леонтия произошла действительно при епископе Иоанне Ростовском, но спустя тридцать с лишним лет, в 1194 г.; имя же Феодора включено в текст по той причине, что в 1162 г. он занимал киевскую кафедру.
68
Руку позднейшего редактора выдают и другие вставки, сделанные в текст послания патриарха. Приведу ещё несколько примеров из начальной его части. В Краткой редакции: «…иже град Володимерь из основаниа воздвигл еси…» — в Никоновской с включением позднейшей легенды об основании города князем Владимиром Святым: «…и яко град, нарицаемый Владимерь, его же святый и блаженный великий князь Владимер во имя свое созда, ты же ныне изо основаниа воздвигл еси…»; в Краткой: «…в ней же церкви многи создал еси…» — в Никоновской: «…в нем же и церковь Пречистыа Богородицы честного и славного Еа Успениа создал еси, и многими драгими и святыми иконами, и книгами, священными сосуды, и всякими вещми, златом, и сребром, и бисером украсил ecu, и многым именьем и стяжанием изобильствова, и села, и слободы, и власти, и з данми дал ecu, и в торгех десятый недели, и в житех, и в стадех и во всем десятое…» В обоих случаях текст дополнений летописной редакции заимствован из рассказа той же Никоновской летописи пару страницами выше о создании Успенской церкви во Владимире, но рассказ этот принадлежит самому автору Никоновской летописи, книжнику XVI века.
69
Дата 1160 г. столь же недостоверна, как и дата 1157 г. применительно к читающейся под этим годом в Никоновской летописи «Повести о происхождении честного креста 1 августа», которая рассказывает о походе Андрея Боголюбского «на Болгары, иже нарицаются Казанцы» (ПСРЛ. Т. 9. С. 210), — притом что сам поход на болгар был совершён в 1164 г.
70
Относительно времени кончины митрополита Феодора в источниках содержится явное противоречие. По словам киевского летописца, святительство Феодора продолжалось всего 10 месяцев, однако его кончина датируется 1162 г. (6671-м ультрамартовским). Полагают, что летописец (или позднейший переписчик летописи) оказался не вполне точен: Феодор находился на митрополии год и 10 месяцев. Менее вероятной датой его кончины признаётся 1161 г. См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 514–515, 522; Бережков. С. 175–176.
71
Во всяком случае, таково наиболее естественное, хотя и не единственное понимание летописного текста. По-другому, полагают, будто Ростислав поначалу отказался принять Иоанна и тот отправился на родину, но в Олешье встретился с «царёвым послом» и Гюрятой, вместе с которыми вернулся в Киев. К сожалению, в летописи имеется явный пропуск, и летописный рассказ обрывается на речи «царёва посла» Ростиславу: «Молвить ти цесарь: аще примеши с любовью, благословение от Святыя Софья…» Уникальное известие содержится в «Истории Российской» В.Н. Татищева: Ростислав будто бы согласился принять митрополита лишь с тем условием, что «впредь, ежели патриарх без ведома и определения нашего противо правил святых апостол в Русь митрополита поставит, не токмо не приму, но и закон зделаем вечный избирать и поставлять епископом руским с повеления великого князя. И тако повелел митрополита ввести в дом его, а послов отпустил к царю с дары и любовью» (Татищев. Т. 3. С. 79–81). Однако нельзя исключать, что историк XVIII века восстановил имеющийся в летописи пропуск самостоятельно, исходя из представлений своего времени.
72
Исследователи отмечают в тексте грамоты явные признаки того, что она была переведена с греческого оригинала. Так, выражение о граде Владимире: «в ней же церкви многи создал еси» (только в Краткой редакции) отражает женский род греческого слова πόλις («город»); непереведённым осталось и греческое слово «тороки», «тороци» (от греч. οραξ, «броня»; в редакции Никоновской летописи); имеются и другие грецизмы. См.: РИБ.Т. 6. Стб. 64, прим. 8, 9; стб. 70, прим. 2 (прим. А.С. Павлова); Бибиков М.В. BYZANTINOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси. Т. 1. М., 2004. С. 111.
73
Ныне в Русской Православной церкви, согласно Церковному уставу, в праздники Рождества Христова и Богоявления (Крещения), случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.
74
См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 629: «…преставившюся Леону, ростовьскому епископу, и поставлен бысть Никола Гречин…» (под 1183 г.). Но это припоминание о более раннем событии: в предшествующей летописной статье тот же Николай, так и не ставший новым ростовским епископом, но получивший взамен полоцкую кафедру, упоминается именно как полоцкий епископ (Там же. Стб. 628). Составители позднейшей Густынской летописи, исходя из показаний Ипатьевской, определённо датируют кончину «Леона Ростовского» 1183 г. (ПСРЛ. Т. 40. С. 100); В.Н. Татищев — 1184-м (Татищев. Т. 3. С. 131).
75
Этa дата читается в большинстве летописей — Радзивиловской, Московско-Академической, Летописце Переяславля Суздальского и др. (ПСРЛ. Т. 38. С. 129; ПСРЛ. Т. 41. С. 89). В Лаврентьевской и Ипатьевской дата приведена по-другому: 2 мая (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 349; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 493; в т. н. Ермолаевском списке Ипатьевской летописи ошибочно: 4 мая: Там же. Приложения. С. 38). Скорее всего, это объясняется ошибкой переписчика, на которого, возможно, оказала влияние известная ему дата памяти святых Бориса и Глеба, связанная с перенесением их мощей 2 мая 1115 г. О вторичности текста, воспроизведённого в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, свидетельствует то, что здесь «становище» на Кидекше приписано не одному св. Борису (как в указанных выше летописях), а обоим братьям: и Борису, и Глебу.
76
Ныне князь Борис Юрьевич почитается местно в Соборе Владимирских святых. Память его вместе с другими владимирскими святыми празднуется 23 июня (6 июля по новому стилю).
77
В.Н. Татищев прибавляет, что «сей князь… учён писанию, многи книги читал и люди учёные, приходящие от грек и латин, милостиво принимая, с ними почасту беседовал и состязания имел». (ПСРЛ. Т. 9. С. 247–248; Татищев. Т. 3. С. 104; Т. 4. С. 284)
78
Непотревоженное мужское погребение в белокаменном саркофаге было обнаружено в южном притворе храма в 30-е гг. прошлого века; предположительно оно было атрибутировано князю Святославу Юрьевичу. См.: Дубинин А.Ф. Археологические исследования г. Суздаля (1936–1940 гг.) // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 11. М.; Л., 1945. С. 97–98; Варганов А.Д. К архитектурной истории Суздальского собора (XI–XVII вв.) // Там же. С. 101. Как отмечают исследователи, «костяк довольно хорошей сохранности»; однако о попытках его дополнительного исследования мне ничего не известно.
79
О том, что младшие братья Андрея были изгнаны из княжества, автор Суздальской летописи знал. Позднее, в рассказе о событиях, последовавших за гибелью Боголюбского, он вспомнит и об этом. Причём — что важно! — вина за изгнание князей будет возложена не на Андрея, но на жителей княжества: оказывается, это они «…посадиша Андрея (на княжеский стол. — А. К.), а меншая (братьев. — А. К.) выгнаша». (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 372; то же: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595)
80
Так полагал ещё автор Густынской летописи, украинский книжник XVII в., называвший императора Мануила дедом князей Мстислава, Василька и Всеволода Юрьевичей (ПСРЛ. Т. 40. С. 90). Ср. также у В.Н. Татищева: «По сему видится, что вторая супруга (Юрия. — А. К.) греческая принцесса была и, по изгнании от пасынка, с детьми в Грецию поехала (в одном из вариантов: «…по свойству в Грецию ездила». — А. К.) и, чаятельно, тамо скончалась…» (Татищев. Т. 3. С. 246, прим. 487; С. 296, прим. 15–15; ср.: Т. 1. С. 375).
81
Полагают, что Василько получил от императора те же крепости, что за столетие до него печенежский хан Кеген, — на территории Северной Добруджи (ныне в Румынии) Только этих крепостей было не три, как у Кегена, а четыре. (См.: Степаненко В.П. «Города на Дунае» в контексте русско-византийских отношений X–XII вв. // Русь и Византия: Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2008. С. 131)
82
Современные исследователи обращают внимание на ряд обстоятельств, которые вроде бы подтверждают присутствие князя Мстислава Юрьевича и членов его семьи в Святой Земле. Речь идёт о новгородских связях князя. Так, в Новгороде выявлены предметы, имеющие очевидное происхождение из стран Ближнего Востока, в частности из Иерусалимского королевства. С этим регионом, возможно, был связан владелец исследованной археологами иконописной мастерской, которого предположительно отождествляют с Олисеем Гречином (или Гречином Петровичем), чьё имя и элементы биографии восстанавливаются из летописи и берестяных грамот. Анализ грамот вкупе с отрывочными известиями летописи позволил А.А. Гиппиусу предположить, что этот Гречин был сыном известного новгородского боярина Петра Михалковича (тестя князя Мстислава Юрьевича) и, соответственно, шурином Мстислава. По мнению исследователя, Олисей ещё ребёнком мог последовать за своим зятем и сестрой в Палестину и там обучиться иконописному делу. Отсюда, как считает А.А. Гиппиус, имя (или, точнее, прозвище) Олисея — Гречин. См.: Гиппиус А.А. К биографии Олисея Гречина // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Отв. ред. О.Е. Этингоф. М., 2005. С. 99–114; Этингоф О.Е. Заметки о греко-русской иконописной мастерской в Новгороде и росписях в Спасо-Преображенской церкви на Нередице // Там же. С. 115–143. О комплексе находок на усадьбе «А» Троицкого раскопа в Новгороде: Колчин Б. А., Хорошев А. С, Янин В.Л. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981. О следах византийского присутствия в Аскалоне, что, по мнению исследователя, может быть связано с нахождением здесь русского князя Мстислава Юрьевича: Майоров А.В. Русь, Византия и Западная Европа: из истории внешнеполитических и культурных связей XII–XIII вв. СПб., 2011. С. 496–510.
83
Иногда, напротив, полагают, что Мстислав Юрьевич вернулся на Русь ранее 1166 г., ссылаясь на указание под этим годом Лаврентьевской летописи о походе некоего Мстислава «за Волок» (см.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 3. С. 345, прим. 405; и др.). Однако здесь, по всей вероятности, речь идёт о другом Мстиславе — сыне Андрея Боголюбского (ср.: Насонов А.Н. «Русская земля»… С. 190). По мнению А.В. Майорова, Мстислав, вероятнее всего, возвратился на Русь незадолго до взятия Иерусалима Саладином, т. е. около 1187 г. (Майоров А.В. Указ. соч. С. 508). Промелькнуло в литературе и предположение о том, что именно Мстислава Юрьевича имеет в виду византийский хронист Иоанн Киннам, сообщая об упомянутом выше «Владиславе», «одном из династов в Тавросифской стране», который «вместе с детьми, женой и всеми своими людьми добровольно перешёл к ромеям» (см.: Бибиков М.В. BYZANTINOROSSICA… Т. 2. С. 479, прим. 6; со ссылкой на Е.Ч. Скржинскую).
84
О том, что князь Всеволод Юрьевич «приде из замория из Селуня», сообщается в новгородской статье «А се князи русьстии». Правда, его возвращение отнесено здесь к «третьему году» после смерти Андрея Боголюбского, то есть ко времени вступления Всеволода на владимирский стол в 1176 году, что неверно. (НПЛ. С. 468)
85
прочем, по мнению В.Т. Пашуто, речь может идти о ком-то из вассалов галицкого князя Ярослава Осмомысла (Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 185).
86
Когда в 1189 г. из венгерского плена в Германию бежал галицкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла, император Фридрих Барбаросса оказал ему помощь, но лишь после того, как «уведал», «оже есть сестричич (племянник по матери. — А. К.) великому князю Всеволоду Суждальскому, и прия его с любовь[ю] и с великою честью» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 666).
87
«…Посемь же перея власть его всю Ярослав и бысть самовластець Русьстей земли» (в Радзивиловском списке «Повести временных лет»: «самодержець»; в Ипатьевской: «единовластець»): ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150; ПСРЛ. Т. 38. С. 65; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 138. А ещё прежде Ярослава так же назван его отец Владимир Святой: «единодержцем» (в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона) или «самодержцем всей Русской земли» (в Сказании о Борисе и Глебе). Ср.: Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. С. 69–77.
88
В поздней Никоновской летописи приводятся сведения ещё об одном походе, организованном Андреем Боголюбским в начале 1160-х годов, — «за Дон, далече», против половцев. Правда, сам Андрей в поход не выступил, но поставил во главе посланной им рати своего старшего сына Изяслава, «и с ним друзии мнозии князи, и воинство ростовское, и суздалское, и рязанцы, и муромцы, и пронстии, и друзии к сим мнози совокупишася…». Где-то в «Поле», за Доном, русские встретились с половцами: «И бысть брань велиа и сечя зла, и начата одолевати русстии князи». Половцы применили свою излюбленную тактику: «…рассыпашася на вся страны по полю; русьским же воям за ними гнаше. И пришедъшим на Ржавцы (что это за местность, неизвестно. — А. К.), и половци паки собравшеся, удариша на русское воинство, и многих избиша; но паки поможе Господь Бог и Пречистая Богородица христианьскому воинству, и прогнаша половцев», так что те бежали «восвоаси». Но победа эта стоила слишком дорого: «…князи же рустии возвратишася во своя отнюдь в мале дружине, вси бо избиени быша в поле от половцев».
[ПСРЛ. Т. 9. С. 222. В Никоновской летописи поход датирован 1160 г., но под этим годом здесь объединены события разных лет, включая поход самого Андрея Боголюбского с тем же Изяславом на волжских болгар (в действительности, 1164 г.). В.Н. Татищев в своей «Истории…» (Т. 3. С. 78; Т. 4. С. 267) датирует поход 1162 г., сообщая вслед за этим о приходе половцев к граду Юрьеву, т. е. о событиях, которые, по Ипатьевской летописи, датируются 6670 г. (1161/62).]
Однако в достоверности приведённого рассказа есть серьёзные сомнения. Особенно смущает участие «рязанцев» и «пронстиих» (то есть жителей Пронска) в походе, организованном Андреем Боголюбским. Как показывают наблюдения исследователей, «рязанские» известия Никоновской летописи в большинстве случаев представляют собой позднейшие фальсификации московского книжника, имеющие целью обосновать претензии московских властей на те или иные территории, на которые в XVI веке претендовало также Польско-Литовское государство. [Ср.: Насонов А.Н. «Русская земля»… С. 209–211]
89
Примечательно, что, по данным Устава новгородского князя Всеволода Мстиславича (в своей основе: 1135–1136 гг.), именно «низовские», т. е. суздальские, купцы торговали в Новгороде перцем, скорее всего привозимым из Волжской Болгарии. См.: Лимонов Ю.А. Актово-правовое оформление внешнеполитических отношений Владимиро-Суздальской Руси с Волжской Болгарией (Опыт реконструкции) // Древнейшие государства Восточной Европы. 1991. М., 1992. С. 259–264.
90
Если не считать известия позднего Жития Андрея XVIII в. (в одной из редакций) о том, что князь ещё прежде 1162 г. «первое (в первый раз) поиде со всею своею воинскою силою на безбожныя и противящиеся ему болгары», коих «без кровопролития христианскаго победи» (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 228–229). Но это не более чем попытка согласовать в Житии две версии создания церкви Покрова на Нерли (см. ниже).
91
Об этом сообщает арабский путешественник из Испании Абу Хамид ал-Гарнати, лично посетивший Волжскую Болгарию в 1130—1150-х гг. См.: Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Публ. О.Г. Большакова и А.Л. Монгайта. М., 1971. С. 31, 104–105.
92
На такой маршрут движения русской рати, как считает автор, указывает участие в походе муромских дружин, с которыми Андрею удобнее было встретиться на Оке вблизи устья Клязьмы.
93
В статье «А ся съдея в лето 6672-я» последовательность событий иная, внешне более логичная: о взятии безымянных болгарских городов говорится сразу же после сообщения о победе Андрея («…и одва в мале дружине утече князь болгарьский до Великаго города, а хрестьяни плениша славный грады их. И отиде Андрей с победою…»). Можно было бы думать, что здесь представлена более ранняя версия летописного рассказа (так иногда и полагают; см.: Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний… С. 84), но это едва ли верно; ср.: Кучкин В. А., Сумникова Т.А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 481–482; Конявская Е.Л. История сложения цикла сказаний о чудесах Владимирской Божией Матери и его судьба в XV–XVI вв. // Религии мира: История и современность. 2005. М., 2007. С. 25 (примечательно, однако, что первоначально В.А. Кучкин придерживался противоположной точки зрения: о первичности внелетописной статьи, см.: Кучкин В.А. О маршрутах походов древнерусских князей… С. 37).
94
Название города восходит к мусульманскому имени Ибрагим. На роль основателя города предлагались два болгарских правителя, носивших это имя, — некий Ибрагим, упомянутый в списке булгарских ханов, составленном татарским историком XIX века Ш. Марджани (этот Ибрагим мог быть даже современником Андрея Боголюбского), и эмир Абу Исхак Ибрахим Ибн Мухаммад, который был «государем Булгара и той области, которую целиком называют Булгар», в 1024–1025 годах; его имя упоминает Абу-л Хасан Бейхаки, персидский историк и писатель XII века. [См.: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984. С. 60–62]
95
Согласно тексту, читавшемуся на нижнем поле двусторонней иконы «Спас на престоле с припадающим митрополитом Киприаном» из иконостаса московского Успенского собора, эта икона и являлась тем образом, от которого было чудесное видение во время похода Андрея Боголюбского в 1164 году. Правда, икона эта поздняя, но она, вероятно, восходит к иконе раннего времени. Более того, высказано предположение, что данная икона (точнее, ее первоначальный образ) являлась «парной» к Боголюбской иконе Божией Матери и, соответственно, происходит из Рождество-Богородицкого собора Боголюбского монастыря [Стерлигова И.А. Боголюбская икона Богоматери… С. 203, прим. 50]. Оценить степень вероятности данного предположения, равно как и характер надписи на иконе, я, к сожалению, не имею возможности.
В литературе высказано и другое предположение относительно упомянутой в тексте Слова о празднике 1 августа иконы: «воинским лабарумом Андрея» могла быть знаменитая икона Спаса Нерукотворного, на обороте которой изображено Поклонение кресту; её-то и нёс один из священников [См.: Воронин Н.Н. Сказание о победе над болгарами… С. 89. Это предположение принято и в современной церковной литературе; см.: Минея. Июль. 4.1. С. 282]. Это предположение также кажется недоказуемым.
96
Описание победы Иоанна Контостефана в византийских источниках свидетельствует о том, что победа имела место в 1160 г. (Иоанн Киннам. Краткое обозрение… С. 158–159).
97
По сведениям В.Н. Татищева, Нестор «умре во изгнании в Киеве» (Т. 3. С. 91, под 1169 г.). Откуда извлечено это известие и какова степень его достоверности, неизвестно.
98
Эта фраза («Аз же написах ти се повелениемь цесаря Мануила…») вызывает особое внимание исследователей. В ней видели фрагмент некой не известной нам грамоты князю или митрополиту из Царьграда (Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. С. 296), свидетельство сокращения самого Слова о празднике или же вообще описку, «которая переносилась из списка в список и составила большое преткновение для правильного разумения всего текста…» (Забелин И.Е. Следы литературного труда Андрея Боголюбского. С. 44–45). Прежде всего, обращают внимание на явную несогласованность указанной фразы (с обращением «ти») с началом статьи, где идёт обращение к «возлюбленной братии» («Ведети есть о сем нам, възлюбленая братиа…»). Соответственно, данную приписку признают либо «сознательным фальсификатом, призванным подтвердить авторитетом всё изложенное в тексте», либо «случайно попавшим в текст проложной статьи фрагментом» некоего другого текста (Конявская Е.Л. История сложения цикла… С. 27–28). «Не противореча предыдущему тексту проложной статьи по своему содержанию, — пишет Е.Л. Конявская в другом месте, — она (эта фраза. — А. К.) не коррелирует с ним по форме» (она же. К истории сложения проложной статьи на 1 августа. С. 8). Я бы обратил внимание на принципиально иную возможность объяснения данной фразы. Слово «ти», по всей вероятности, относится не к предполагаемому адресату грамоты, а к Господу, к которому и обращена читающаяся выше молитва («…Тем вси припадем Ти, глаголюще…»; и т. д.). Таким образом, формальное противоречие может быть снято: автор лишь сообщает, что он составил молитву «повелениемь цесаря Мануила» — так же, как Мануил, вместе с Андреем, «уставил» данное празднование, о чём говорилось выше. В принципе, это тоже своего рода фальсификат, но не выходящий за рамки концепции автора Слова.
99
Первое мнение принадлежит Г.Ю. Филипповскому (Столетие дерзаний… С. 132–133), второе — Е.Л. Конявской (К истории сложения проложной статьи на 1 августа. С. 12–13). Е.Л. Конявская допускает, что данный текст мог изначально включать в себя фразу «Аз же написах ти се…», которая впоследствии осталась в основном тексте Поучения (см. выше, прим. 218).
100
Как отмечает Е.Л. Конявская, это добавление частично текстуально совпадает с т. н. «Правилом» митр. Максима (см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 3. М., 1995. С. 447). По мнению исследовательницы (Указ. соч. С. 9), «очевидно, что книжник, присоединивший текст о постах к проложной статье на 1 августа, использовал какую-то иную версию полного текста, который, возможно, потом стал приписываться митрополиту Максиму».
101
В Лаврентьевской летописи (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 353) это событие вынесено в отдельную статью, под 6673/1165 г. В Ипатьевской (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 524) оно читается в конце статьи под 6672 ультрамартовским годом, т. е. должно быть отнесено к 1164 г. Примечательна ремарка составителей Тверской летописи: Изяслав «преставися… пришед из болгарского бою» (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 236). В ряде летописей смерть Изяслава датирована (ошибочно?) 28 сентября (ПСРЛ. Т. 25. С. 73; ПСРЛ. Т. 7. С. 77–78 и др.).
102
По сведениям так называемого «Летописца Владимирского собора» (по списку последней четверти XVII века), эти «стрелы железные» были двух видов: «с томаром» (то есть с затупленным наконечником) — весом «7 гривенок» (то есть, если речь идёт о так называемых «малых гривенках», почти полтора килограмма?) и «с перьем» — весом «5 гривенок» (то есть больше килограмма?); было же их в соборе «много». [Шилов А.А. Описание рукописей, содержащих летописные тексты (Материалы для полного собрания русских летописей). Вып. 1 // Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1909 г. Вып. 22. СПб., 1910. С. 68. Вне связи с князем Изяславом Андреевичем стрелы упоминаются в Описи владимирского Успенского собора XVII в. (Виноградов А. И., прот. История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1903. Приложение. С. 67). Позднее на надгробном камне Изяслава хранился и какой-то древний железный шлем (Доброхотов В.И. Памятники древности во Владимире Кляземском. С. 94)]
103
1166 (6674) г. по Лаврентьевской летописи. В Ипатьевской о его смерти сообщается под 6674-м ультрамартовским, что соответствует 1165 г. Ср.: Бережков. С. 177.
104
В списке Жития, изданном А.В. Сиреновым, этого фрагмента нет. Строительство церкви Покрова датируется здесь 6670 (1162?) г. (причём перед этим сообщается о неком «первом» походе Андрея Боголюбского на болгар), а смерть Изяслава отнесена к 6672/1164 г. (см. выше, прим. 193). В Летописи Боголюбского монастыря строительство Покровской церкви датируется 1165 г. (Летопись Боголюбова монастыря… С. 4), и эта дата — разумеется, условная — присутствует в большинстве работ по истории Покровской церкви. В последнее время предлагается и другая, значительно более ранняя дата возведения храма — 1158 г. (см.: Заграевский С.В. Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника. М., 2008 // http://www.rasarch.ra/ zagraevsky24.htm. Гл. 8. 2), однако её обоснование в источниках оказывается уязвимым. С.В. Заграевский ссылается на показания ряда летописей, сообщающих под 1158 г. о построении в Боголюбове двух «церквей каменных», причём в одной из летописей, т. н. Владимирском летописце, вторая из церквей прямо названа церковью Покрова на Нерли (см. выше, прим. 99–100). Но эта традиция (восходящая к показаниям новгородской статьи «А се князи русьстии») исходит из того, что Успенский собор был построен спустя 11 (!) лет после боголюбовских построек — что в принципе невозможно. Очевидно, что известие летописей можно рассматривать как свидетельство возведения (закладки?) в 1158 г. Боголюбовской крепости; две же боголюбовские церкви упомянуты здесь, что называется, заодно.
105
В позднем «Иконописном подлиннике» XVIII века названа дата утверждения праздника Покрова Божией Матери — 1103 год. [Филимонов Г.Д. Иконописный подлинник сводной редакции XVIII века. М., 1876. С. 163; Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. С. 32. Об установлении праздника в Южной Руси, ещё до Андрея Боголюбского, см.: Сергий (Спасский), архиеп. Святый Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятая Богородицы. СПб., 1898]. Однако откуда она заимствована, неизвестно.
106
Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов… С. 129–131. Правда, сама О.В. Лосева не сомневается в том, что Слово на Покров написано книжниками Андрея Боголюбского, если не им самим. Более того, исходя из того, что Слово «возникло одновременно с составлением учительного раздела» Пролога, исследовательница допускает, что Андрей мог быть «инициатором всего предприятия», т. е. инициатором переработки Пролога и включения в него особого, «учительного» раздела.
107
В Ипатьевской летописи число лет княжения Ростислава Мстиславича ошибочно показано как 50, что объясняется простой ошибкой, вызванной сходством в написании кириллических букв «и» (8) и «н» (50). О дате смерти см.: Бережков. С. 178–179.
108
«Святым» и «треблаженным» назвал князя Ростислава Мстиславича смоленский книжник уже вскоре после его смерти [Щапов Я.Н. Похвала князю Ростиславу Мстиславичу как памятник литературы СмоленскаXII в. // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 59]. Позднее князь Ростислав-Михаил Смоленский был причтён к лику святых. Память его празднуется 14 марта (по старому стилю), в день его кончины.
109
О том, что речь идёт о неизвестной из других источников дочери Андрея Боголюбского и жене князя Олега Святоcлавича-младшего, см.: Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892. (Отд. оттиск из IX вып. Летописи занятий Археографической комиссии.) С. 272, прим. 10 (Р.В. Зотов предположительно называет её имя — Евфросиния, упомянутое в Любечском синодике черниговских князей как имя жены некоего «великого князя Феодосия Черниговского»; правда, для отождествления его с Олегом Святославичем-младшим оснований явно недостаточно: Там же. С. 25, 41–42). С этим согласны и А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский (Внутридинастические браки между троюродными братьями и сестрами в домонгольской Руси. С. 50–51, прим. 20). Такое понимание текста следует признать наиболее логичным; странно, однако, что о браке Андреевны и сына Святослава Всеволодовича ранее в летописях ничего не говорилось. Однако в летописной фразе не исключена и ошибка. Речь может идти о сестре Андрея (т. е. ошибка — в слове «Андреевна»), бывшей жене князя Олега Святославича-старшего. Именно так понял текст автор Московского летописного свода конца XV в., который сразу же за этим и в связи с этим сообщил о браке Олега с дочерью Ростислава Мстиславича: ПСРЛ. Т. 25. С. 74. Но Олег вступил в новый брак с Агафьей Ростиславной ещё в 1164 г.; в следующем году у него родился сын Святослав (в крещении Борис) (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 525, 526). Так что если принимать данное толкование летописной фразы, то получается, что Олег развёлся с Андреевной — возможно, страдавшей какой-то болезнью, и ещё при её жизни вступил в новый брак, что в принципе вполне допустимо. Наконец, нельзя исключать и третью версию: «Андреевна» — это действительно дочь Андрея Боголюбского, но в летописи она ошибочно названа женой Олега («за Олгом за Святославичем»); в действительности же речь идёт о вдове умершего в том же году князя Святослава Владимировича.
110
Что это за князь, трудно сказать с уверенностью. Иногда полагают, что речь идёт о племяннике Мстислава, сыне его младшего брата Ярополка, — но тот к указанному времени должен был быть ещё совсем юным; иногда — что о каком-то другом князе — может быть, сыне бывшего киевского князя Ярополка Владимировича, родившемся незадолго до смерти отца. В летописи Василько Ярополчич упоминается и раньше. Это был весьма деятельный и храбрый князь. Так, в 1166 году он разбил половцев на реке Рось: «…много же их руками изоима, и обогатишася дружина его оружьем и кони, и сам искупа (выкупа. — А. К.) много има на них».
О том, что в данном случае речь идёт о племяннике («сыновце») Мстислава, определённо говорят поздние летописи; см., напр.: ПСРЛ. Т. 25. С. 75; и др. Однако уверенности в этом нет. Прежде всего, требуется ответить на вопрос: тот ли это Василько Ярополчич, который упоминался ранее в связи с событиями 1150/51 г. (см. в первой части книги). Если да, то он, конечно, не мог быть сыном Ярополка Изяславича, появляющегося на страницах летописи гораздо позже. Однако тот, первый, Василько упоминается как союзник Владимирка Галицкого и Андрея Боголюбского, что вообще не вяжется с действиями второго Василька, выступающего в качестве верного союзника Мстислава Изяславича. Можно высказать ещё одно предположение: упомянутый Василько (тот и другой или же только второй) был сыном бывшего киевского князя Ярополка Владимировича. Правда, считается, что у Ярополка не было сыновей, — но это утверждение бесспорно лишь для времени начала его киевского княжения, когда он прилагал усилия для передачи власти своему старшему племяннику Всеволоду Мстиславичу. Но, может быть, сын у него родился позже, незадолго до смерти? Тогда он вполне мог принять участие в событиях 50–60-х гг. XII в. Подробнее см. об этом: Литвина А. Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей… С. 109–110. Впрочем, мы знаем далеко не всех русских князей XII в., а потому нельзя исключать, что речь идёт о каком-то неизвестном нам князе (или неизвестных нам князьях).
111
Считается, что речь идёт о внуках бывшего волынского князя Давыда Игоревича, хотя отец братьев, князь Всеволодко Городенский († 1142), ни разу не упомянут в летописях (кроме совсем уж поздних) с отчеством, и чьим сыном он был, остаётся неизвестным.
По мнению А.В. Назаренко, князь Всеволодко Городенский мог быть сыном берестейского князя Ярослава Ярополчича, правнуком Изяслава Ярославича Киевского; см.: Назаренко А.В. Городенское княжество и городенские князья в XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 169–188; он же. Древняя Русь и славяне (Историко-филологические исследования). М., 2009 (Древнейшие государства Восточной Европы. 2007). С. 124–161.
112
Ниже, в рассказе о начале княжения Мстислава в Киеве, названа дата его вступления в город (Там же. Стб. 535). Н.Г. Бережков полагал, что в тексте летописи ошибка и вместо «мая в 19 день» следует читать: «мая в 15 день», ибо именно 15 мая приходилось в указанном году на понедельник, а летописец сообщает о вступлении Мстислава в Киев «у понедельник» (Бережков. С. 179). Но летописец дважды сообщает о вступлении Мстислава в город! В первый раз это произошло не в понедельник, а в пятницу («…бе же день тогда пяток»), и именно в этот день князь взял «ряд» с киевлянами. Думаю, что именно этот день заключения договора с князем и отложился в Киеве как день начала княжения Мстислава Изяславича. 19-е же мая в 1167 г. пришлось как раз на пятницу.
113
По-другому сообщает В.Н. Татищев, по сведениям которого Мстислав передал Вышгород обоим братьям Ростиславичам — «для любви, яко братаничам».
114
См. также: НПЛ. С.. 32. Здесь же, в Новгородской Первой летописи, названа и дата ухода Святослава: новгородцы сидели «без князя» «от Семеня дня (1 сентября. — А. К.) до Великаго дни (Пасхи, т. е. 31 марта. — А. К.)», а точнее, до 14 апреля, «второй недели» после Пасхи (Там же. С. 33).
115
Как полагает В.Л. Янин, этого Якуна не следует отождествлять с прежним новгородским посадником, носившим то же имя, — Якуном Мирославичем (Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003. С. 146–147; отмечается, что в списке новгородских посадников они показаны отдельно друг от друга). Иначе считает А.А. Гиппиус, согласно которому политическая карьера Якуна продолжалась очень долго — 40 лет (Гиппиус А.А. Пётр и Якша: К идентификации персонажей новгородских берестяных грамот XII в. // Новгородский исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 68–69, прим. 6). В некоторых позднейших источниках этот второй Якун называется Андреевичем (ПСРЛ. Т. 9. С. 242; Степенная книга. Т. 1.С. 468).
116
В Никоновской летописи говорится не просто о «запрещении», но о «заточении» игумена Поликарпа. В этом митрополиту Константину помогали черниговский епископ Антоний и некий переяславский епископ, который в одном из поздних списков летописи, так называемом Лаптевском, поименован Феодором, а в «Истории…» В.Н. Татищева — Антонием. У В.Н. Татищева этот сюжет получил дальнейшее развитие. Здесь сообщается о том, что князь Мстислав Изяславич будто бы созвал в Киеве церковный собор, на который явились епископы, игумены, попы и «чернцы умные», «и снидеся их до полутораста». От Андрея на собор явился «Федорец, игумен из Суздаля», — то есть будущий церковный раскольник «лжевладыка» Феодор, который затем отправился из Киева в Константинополь. На соборе начались споры, «и бысть прение в них многое»: одни стояли за игумена Поликарпа, другие — за митрополита; большинство же отговаривалось незнанием. Андрей будто бы писал к Мстиславу, «да ссадит митрополита и велит ина епископом избрати». (В одном из списков «Истории…» Татищев позднее дописал, что Андрей в письме представлял Мстиславу, какой «от власти патриархов в Руси великий вред и напрасные убытки».) Но Мстислав, зная о неприязни к себе князей, опасался озлобить еще и епископов. Когда же большинство участников собора разошлись, митрополит «с Антониями» осудил Поликарпа на заточение [ПСРЛ. Т. 9. С. 236; Татищев. Т. 4. С. 273–274; Т. 3. С. 87–89]. Очень похоже на то, что и здесь мы имеем дело с домыслами историописателя XVIII века.
117
В Новгородской Первой летописи рассказ о походе на Киев помещён после известия о том, что «тому же лету исходящю, на весну», князь Роман Мстиславич с новгородцами разорил Торопец (НПЛ. С.. 33, 220–221).
118
Об этом свидетельствует Новгородская Первая летопись. Некоторые поздние летописи в числе участников похода называют ещё и белозерцев; «…и вся земля та поиде на нь», — читаем, например, в Ермолинской летописи (ПСРЛ. Т. 23. С. 47; см. также: ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 240 (Тверская); ПСРЛ. Т. 20. С. 124 (Львовская); и др.).
119
О том, что Славята был дедом воеводы Бориса и отцом Жидислава (Жирослава), нам известно из Сказания о чудесах Владимирской иконы, где сестра Бориса Мария названа игуменьей «своего ей деда» Славятина монастыря; см. выше.
120
Лаврентьевская летопись называет Всеволода крестильным, а не мирским именем — Дмитр; в Радзивиловской и Московско-Академической летописях это имя звучит иначе — Дмитрок, или Дмитрько; см.: ПСРЛ. Т. 38. С. 132. В Лаврентьевском списке перечень князей искажён: вместо Дмитра Гюргевича (как в Радзивиловской) здесь читаются два имени: «Дмитр и Гюрги». Возможно, это вызвано желанием согласовать общее число князей: цифра «11» («и инех князий 11») приведена здесь уже после упоминания князя Мстислава Андреевича, хотя в число одиннадцати князей сын Боголюбского, несомненно, входил. (В Ипатьевской летописи по той же причине в число князей был включён Борис Жидиславич.) В более поздних летописях путаница продолжилась. Так, в Никоновской упоминаются и Всеволод, и «князь Дмитрей», и «князь Юрьи», и ещё какой-то «князь Мстислав» (отличный и от сына Боголюбского, и от брата смоленских князей Ростиславичей, и от племянника Андрея), «и иных множество князей» (ПСРЛ. Т. 9. С. 237). Современный историк делает из этого вывод, что «в походе участвовало не менее четырнадцати князей» (Котпяр Н.Ф. Дипломатия Южной Руси. СПб., 2003. С. 245).
121
Хотя позднейший источник украинского происхождения, так называемая Густынская летопись, называет «Матешича» главным организатором похода: «злонравный» Владимир Мстиславич, «иже тогда бяше в Москве при Андрею Боголюбском… всегда поущающе князей на Мстислава», так что князья «кроме всякия вины вокрамолишася на Мстислава Изяславича, паче же на погубление княжения Киевьскаго» [ПСРЛ. Т. 40. С. 93]. Заметим, что «Москва» здесь — не конкретная крепость на юго-западе Суздальской земли, но обобщённое название владений Андрея Боголюбского.
122
По-другому рассказывается в поздней Никоновской летописи. Здесь в измене обвинены всё те же бояре Мстислава Пётр и Нестор Бориславичи (последний, правда, назван Жирославичем) и некий Яков Дигеневич: они «начата коромолити и тайно съсылатися со князем Мстиславом Андреевичем и со иными князи, како предати им град Киев». По их задумке, князья должны были открыто приступать к «крепким местам» городских укреплений, а тайно готовиться к штурму других, менее укреплённых мест: «Да егда, рече, вси приступаете к крепким местом града, сице и наши все гражане у крепких мест града стануть на бой противу вас; некрепкий же места града нашего небрегоми будуть, и тако… без труда возмете град». Так и вышло: обороняющиеся оставили «некрепкие места» без должной охраны; «ратнии же кознь творяху, и тако внезапу насунушася все на некрепкое место града, и взяша град Киев». По сведениям авторов летописи, осада продолжалась не три дня, а целых три недели. Автор Новгородской Первой летописи, очевидно, не разобравшись в сути событий или же намеренно скрывая то, что произошло, сообщал, что Мстислав Изяславич по своей воле, «не бияся», покинул Киев. Надо думать, что такая версия казалась предпочтительнее сыну Мстислава Роману, княжившему в Новгороде, и самим новгородцам.
123
В Ипатьевской: «Рода, тивуна его». Имя Родион приведено в Ермолаевском списке летописи: ПСРЛ. Т. 2. Приложение. С. 43.
124
В Ипатьевской летописи датой взятия Киева названо 8 марта, но в дате — явная ошибка: «месяца марта в 8 в второе недели поста в середу»; та же дата и ниже — как дата начала княжения Глеба Юрьевича в Киеве (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 545). Между тем в 1169 г. 8 марта пришлось на субботу первой недели поста. Как полагает Н.Г. Бережков, скорее всего, ошибка возникла в результате неверного прочтения кириллической цифры «ei» (12) как «и» (8) (Бережков. С. 181). Менее вероятным он считает другое предположение: летописец сам высчитал эту дату, ошибочно отнеся события к концу т. н. «циркамартовского» 6679 г., т. е. к марту 1172 г., когда 8 марта действительно пришлось на среду второй недели поста (Там же. С. 335–336).
125
Так в Лаврентьевской летописи. В Ипатьевской: «грабиша за 2 дни». Автор украинской Густынской летописи согласовывает обе версии: князья грабили Киев «два дни… в третий же день зажгоша его, такожде и все монастыре и церкви огнем пожгоша».
126
Имеются в виду слова Изяслава Мстиславича, сказанные им в бытность киевским князем: «Не идёт место к голове, но голова к месту».
127
В некоторых списках фраза имеет продолжение: «Андрею боголюбивому князю много посланья написа от евангельских и пророческих сказаний, яже суть на праздники Господьския…» Однако в других, более ранних списках этот текст вводится фразой, не имеющей отношения к посланиям Андрею: «Книги написа от еуаггельских и пророческих сказаний, яже суть на праздники Господьския…» и т. д. О времени составления Жития св. Кирилла Туровского: Там же. С. 233–235. Прямая цитата из Жития читается в рассказе о «лжеепископе» Феодоре в Московском летописном своде конца XV в. и Воскресенской летописи (ПСРЛ. Т. 25. С. 79; ПСРЛ. Т. 7. С. 85: «за [у]коризну тако наречен»).
128
В исторической литературе назывались и другие произведения Кирилла Туровского, в которых будто бы отразилось «дело Федорца» или присутствуют намёки на него, — «Слово о расслабленном» (Грушевский А. Очерк истории Турово-Пинского княжества X–XIII вв. Киев, 1901. С. 76), «Слово на собор святых отец» (Левшун Л.В. Позиция Кирилла Туровского в деле Феодорца Ростовского и её отражение в «Слове на сбор святых отець» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 1. М., 1989. С. 106–122).
129
О том, что «Слово» обращено к Андрею, прямо говорится в одном из списков Жития святого Кирилла, где после слов: «Андрею боголюбивому князю много посланья написа» читаем: «…блаженаго Кюрила книга епископа Турьскаго слово о душе полезно. О хромци и о слепци». [Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. № VI. Проложное Житие Кирилла, епископа Туровского // Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 82. № 4. СПб., 1907. С. 63, прим. 2].
130
В Ипатьевской летописи слегка распространён рассказ, читающийся в Лаврентьевской (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 356), — но распространён именно за счёт подробностей, которые могли быть известны в Киеве.
131
Иные сведения о судьбе Феодора приведены в «Истории…» В.Н. Татищева. Здесь говорится о том, что Андрей отправил в Киев вместе с осуждённым своего посла, а также «челобитчика и свидетелей», «написав все приносимые на него вины». Митрополит, «исследовав всё прилежно и облича его судом духовным недостойна быть причастником церкви», отправил Феодора на «Пёсий остров» «на покаяние». Но тот и там начал «наипаче злоречить митрополита и тяжкие ереси произносить», за что был отдан на суд великого князя — надо полагать, Глеба Юрьевича. И уже великий князь осудил его, «яко богохульника: велел ему язык урезать, очи исторгнуть и руку правую, а потом главу отсечь». «И прокляли его собором, а книги, писанные им, на торгу пред народом сожгли» [Татищев. Т. 3. С. 91].
132
«Янева брата», как уточняет летописец — вероятно, желая отличить его от другого воеводы Владислава, Ляха, — притом что ни о каком Яне в летописи ничего не говорится.
133
О том, что Даниил был «на Лаче озере», вспоминают в статье под 1378 г. авторы несохранившейся Троицкой и Симеоновской летописей (Троицкая летопись. С. 417; ПСРЛ. Т. 18. С. 128).
134
В.Л. Янин и А.А. Зализняк датируют грамоту зимними месяцами 1166/67 г., отождествляя описанные в ней события с походом Мстислава «за Волок» (Новгородские грамоты на бересте. Т. 10. С. 25). Это не исключено. Однако видеть в «муже Андрея» из текста грамоты сына Боголюбского нельзя: последний мог быть назван «князем», «княжичем», либо по имени, но никак не «мужем» своего отца.
135
«Противостояние боярских группировок Людина и Неревского концов составляло нерв политической жизни Новгорода на протяжении всего XII в.», — писал по этому поводу А.А. Гиппиус (Гиппиус А.А. О происхождении новгородских кратиров и иконы «Богоматерь Знамение» // Новгородский исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 87).
136
В ряде более поздних летописей рассказ о битве читается под предшествующим, 1168 г.: ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 22 (Рогожский летописец); Конявская Е.Л. Новгородская летопись XVI в. из собрания Т.Ф. Большакова // Новгородский исторический сборник. Вып. 10 (20). СПб., 2005. С. 352; и др.
137
В «Слове о Знамении Пресвятой Богородицы» сообщается о том, что столкновение «данщиков» произошло на Белоозере. Это, однако, представляется историкам менее вероятным — Белоозеро изначально входило в состав Ростовского княжества. См.: Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси… С. 92, прим. 280.
138
Это разночтение объяснимо. В XII–XIII вв. Новгород делился на четыре «конца», позднее их стало пять. Обычной практикой была посылка в войско равного числа воинов от каждого из «концов». «По сто мужь» от «концов» в XII в. воспринималось как четыреста человек, а в XIV — уже как пятьсот (Конявская Е.Л. Об этапах формирования легенды о Знаменской иконе // Особенности российского исторического процесса: Сб. статей памяти акад. Л.В. Милова. М., 2009. С. 71).
139
Согласно одной из новгородских летописей (т. н. Летописи епископа Павла) — 1400 человек (Бобров А.Г. Летописание Великого Новгорода второй половины XV в. //ТОДРЛ.Т. 53. СПб., 2003. С. 113).
140
В более поздних версиях «Сказания о Знамении Пресвятой Богородицы» этот сюжет получил развитие. В так называемом «Воспоминании бывшего знамения и чудесе…» (памятнике, представляющем собой переработку «Слова…» и, возможно, написанном знаменитым книжником XV века Пахомием Логофетом) об Андрее сообщается, что «Божиим попущением внезапу болезни на нь наскочивши. И никако же преста, но бе и еще гневом дыхая…». Болезнь князя изображена на одной из миниатюр в рукописи XVII века, иллюстрирующих поход суздальцев на Новгород [См.: Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 115 (из «Воспоминания Знамения», по соловецкой рукописи «Минеи новым чудотворцам» 1494 г.), 146 (описание рукописи, иллюстрирующей «Сказание о Знамении»)].
141
О походе объединённой рати на Новгород рассказывают несколько независимых (или почти независимых) друг от друга источников, близких по времени к описываемым событиям. Во-первых, это принадлежащий, вероятно, священнику Герману Вояте новгородский по происхождению рассказ Новгородской Первой летописи старшего извода, слегка дополненный в младшем изводе той же летописи (НПЛ. С.. 33, 221). Во-вторых, антиновгородский по своей направленности и суздальский по происхождению рассказ Лаврентьевской летописи (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 361–362; ПСРЛ. Т. 38. С. 134–135, с некоторыми уточнениями в Радзивиловской и Академической летописях). Наконец, в-третьих, рассказ Ипатьевской летописи. В последнюю бьш включён полностью рассказ из Суздальской летописи, но он наложился на самостоятельное повествование о походе, очевидно, восходящее к летописцу князей Ростиславичей. Это повествование также имеет антиновгородскую направленность, но излагает события с точки зрения смоленских князей. Ряд фактов, приведённых в Ипатьевской летописи, не имеет соответствия в иных источниках. Особая, легендарная версия событий представлена в «Слове о Знамении Пресвятой Богородицы» (см. выше). Помимо прочего, сын Боголюбского назван здесь не Мстиславом, а Романом. Причины появления этого имени прояснены: оно свидетельствует о том, что в «Слове…» или его источнике был использован рассказ Новгородской Первой летописи, где сын Боголюбского не назван по имени, а сразу вслед за ним идёт имя князя Романа Ростиславича: «В то же лето, на зиму, придоша под Новъгород суждальци с Андреевицемь, Роман и Мьстислав с смольняны…» Это было понято так, что Роман — имя Андреевича (см.: Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера… С. 102). В позднейших летописях эти версии представлены в различных комбинациях и сочетаниях друг с другом. Ничего принципиально нового для понимания хода войны они, как правило, не дают.
142
«…Бе бо тогда воюя Новгородскую волость», — проясняет обстоятельства его кончины киевский летописец: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 550. Здесь же читается похвала князю Святославу Ростиславичу, вполне трафаретная по содержанию.
143
Нередко считается, что речь идёт о подвигах сына Боголюбского Мстислава (см., напр.: Воронин Н.Н. Андрей Боголюбский. С. 157). Но это, по-видимому, неверно. Как уже говорилось, в рассказе Ипатьевской летописи отразились фрагменты летописания князей Ростиславичей. Соответственно, упомянутый Мстислав должен быть отождествлён с торопецким князем, имя которого вместе с именем его брата Романа названо в летописном рассказе первым. В Лаврентьевской летописи упоминания о подвигах Мстислава нет.
144
То же и в летописях XV в., в частности Ермолинской, Львовской, где вообще ничего не говорится о сражении под Новгородом, но сказано лишь, что князья «не успевше граду ничто же, но язву приимше, възратишася» (ПСРЛ. Т. 23. С. 48; ПСРЛ. Т. 20. С. 126; и др.).
145
Особая версия Новгородской войны, как всегда, приведена у Татищева. По утверждению историка XVIII века, причиной войны стало избиение суздальских «данщиков» на Двине. Узнав об этом, Андрей «вельми оскорбился» и потребовал выдачи Данислава с сообщниками. Новгородцы отказались, «говоря, что князю не надлежало в их области… дань брать и впредь бы не посылал, грозя таким же мсчением». Начав войну, суздальские войска захватили и сожгли Великие Луки и Торжок и, переловив новгородских послов, сослали их в заточение в Смоленск. По пути к Новгороду союзники разбили двух новгородских воевод в сражениях у Русы и на реке Мете близ Новгорода. Причиной поражения суздальской рати Татищев называет жестокий голод, «а к тому новгородцы все жита и скот из ближних мест обрали во град и в дальние места отвезли». О разгроме суздальской рати здесь нет ни слова; сказано лишь, что князья, видя невозможность взять город, принуждены бьии снять осаду и возвратиться назад [Татищев. Т. 3. С. 94].
146
О том, что Илья принял пострижение только перед смертью, свидетельствует запись конца XII в., сохранившаяся на последнем листе пергаменного Студийского устава (ГИМ. Син. № 330): «…преставися Илия, архиепископ Новгородскыи, постригься месяца сепмтября в 7 день… и бысть ему имя мнишьское Иоан» (Столярова Л.В. Записи исторического содержания на Студийском уставе конца XII в. // ПСРЛ. Т. 3: Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000. Приложение 4. С. 563).
147
Как сообщается в Житии св. Иоанна, новгородцы «поругашася ему» и «ковъ (злой умысел. — А. К.) на святаго воздвигше», однако затем убедились в собственной неправоте и испросили у святого прощение; см.: Памятники литературы Древней Руси. XIII — середина XV в. М., 1981. С. 454–463 (подг. текста, пер., коммент. Л.А. Дмитриева): «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе», в составе Жития св. Иоанна, написанного в XV в., скорее всего, знаменитым агиографом Пахомием Логофетом.
77
148
Так в большинстве списков «Слова…». В одном из списков, опубликованном в «Памятниках литературы Древней Руси» и других изданиях, — «во вторую ночь».
149
Именно так полагали составители Устюжской летописи, в которой легенда о новгородской иконе получила дальнейшее развитие По словам книжника XVI века, «по грехом, един князь муромец стрелил на град, и прииде (попала стрела — А.К.) во образ иконы Она же отврати лице свое на град, а ратные все ослепоша» [ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI–XVII вв. Л., 1982. С. 28 (список Мациевича), 68 (Архангелогородский летописец)].
150
До XV в., отмечает исследовательница, праздник Знамения встречается в месяцесловах крайне редко.
151
Так, предполагалось, что дата была перенесена, во-первых, из-за неудобства отмечать это празднование «во дни Великого поста», а во-вторых, так как 27 ноября Церковь празднует память св. Иакова Персиянина, а этот день мог быть именинами тогдашнего посадника Якуна (Якова?) (Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. С. 486). Вспоминали ещё о том, что в тот же день в месяцесловах показана память преп. Романа (V в.), и, таким образом, празднование могло быть установлено в честь молодого новгородского князя Романа Мстиславича (Конявская Е.Л. Об этапах формирования легенды о Знаменской иконе. С. 75); правда, преп. Роман был малоизвестен в древней Руси и память его в месяцесловах домонгольского времени отсутствует. По мнению В.Л. Янина, выбор дня празднования (память св. Иакова Перского) мог объясняться тем, что ближайшей церковью к месту штурма Новгорода в феврале 1170 г. была церковь Св. Иакова на Добрыне улице — поблизости от будущего Рождество-Богородицкого монастыря «на Десятине». «Допустимо предположить, что в храмовый праздник 27 ноября служба св. Якову соединялась с воспоминаниями о победе, добытой новгородцами около этой церкви, в которой, видимо, должен был совершиться и первый благодарственный молебен после битвы 1170 г., — пишет историк. — …Полагаем, что до установления общегородского празднования “Знамения” в середине XIV в. память о битве 1170 г. с поминанием её жертв уже была привязана к дню Якова Перского… и именно эта традиция воздействовала на сохранение рассмотренной особенности Знаменского культа» (Янин В.Л. «Знаменская легенда» в Древней Руси. С. 235–236). Аргументацию исследователя, однако, ослабляет то обстоятельство, что, согласно поздним источникам, церковь на Добрыне улице была посвящена не Иакову Персиянину, а апостолу Иакову Алфееву, брату Господню, дни памяти которого (и, соответственно, храмовый праздник церкви) совершенно иные. Но, по мнению В.Л. Янина, мы имеем дело с относительно поздним «перепосвящением» храма.
152
По мнению исследователя, как и один из двух сохранившихся новгородских кратиров (чаш для причастия), хранившихся в ризнице новгородского Софийского собора, — так называемый кратир мастера Косты с изображениями св. апостола Петра и мученицы Анастасии, — Знаменская икона была вкладом новгородского боярина Петра Михалковича по случаю бракосочетания его дочери (Анастасии?) с князем Мстиславом Юрьевичем в 1156 г. Версия А.А. Гиппиуса получила широкое признание в исторической литературе. Кажется, однако, что на иконе, созданной по случаю брака (если признать её патрональной), уместнее было бы изобразить небесных покровителей жениха и невесты, а не невесты и её отца. В версии А.А. Гиппиуса имеется ещё одно «слабое место»: по логике исследователя, такой вклад должен был быть сделан в кафедральный Софийский собор. Однако икона Знамения первоначально хранилась в Спасской церкви на Торговой стороне Новгорода. Возможно, Петра Михалковича связывали с этой церковью какие-то особые отношения (Там же. С. 92), но нам о них ничего не известно.
153
Сюжет с внезапным ослеплением вражеского войска тоже относится к числу распространённых в сказаниях такого рода. Между прочим, в связь с рассказом «Слова о Знамении…» можно поставить легендарный же рассказ Типографской летописи XV века (в которой отразился более ранний ростовский летописный свод) об осаде Суздаля волжскими болгарами в 1107/08 году: там тоже «Всемилостивый Бог… избави от бед (суздальцев. — А. К.): ослепиша бо вся ратныа болгары, и та[ко] из града изшедше, всех избиша».
[ПСРЛ. Т. 24. С. 72–73. Сходство с событиями Новгородской войны 1170 г. усиливается за счёт ссылки позднего летописца на ниневитян, некогда так же помилованных Богом («…якоже древле ниневгитяне помилова, тако и сих избави от бед»; ср.: Иона 3: 10); близкий текст читается в рассказе о Новгородской войне в Лаврентьевской летописи («…но яко ниневгитяны помилуеть, яко и бысть… избави я милостью Своею…»)].
154
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 561–562, под 6681 г. Выше приведена дата смерти князя Мстислава Изяславича (Стб. 559, под 6680 г.).
155
В Ипатьевской летописи приведена дата ухода Рюрика с юга — 8 августа. Но эта дата неверна (см.: Бережков. С. 187). Возможно, верное чтение: 8 сентября?
156
Из этой надписи, сделанной со слов княгини попом Савлом, мы узнаём, что жена князя Владимира Андреевича приходилась родной сестрой князьям Олегу, Игорю и Всеволоду Святославичам.
157
Дата погребения указана (поверх исправленного) в Хлебниковском списке летописи. В Ипатьевском ошибочно: 15 февраля. Ср.: Бережков. С. 181–182.
158
В «Истории…» В.Н. Татищева дан такой портрет князя Мстислава Изяславича: «Сей князь роста был не вельми великаго, но широк плечима и крепок, яко его лук едва кто натянуть мог. Лицем красен, власы кудрявы и краткие носил. Мужествен был во брани, любитель правды, его храбрости ради все князи его боялись и почитали. Хотя часто с жёнами и дружиною веселился, но жёны ни вино им не обладало. Он всегда к росправе и разпорядку был готов, для того мало спал, но много книг читал, и в советах о росправе земской с вельможи упражднялся, и детей своих прилежно тому наставлял, сказуя им, что честь и польза князя состоит в правосудии, росправе и храбрости» [Татищев. Т. 3. С. 95–96. Весь этот текст написан в Воронцовском списке «Истории…» на вклейке]. Об этом портрете можно сказать то же, что мы говорили о других татищевских характеристиках князей, — скорее всего, в своей основной части он принадлежит самому историку.
159
«…Не бысть сего», — решительно отвергает эти обвинения автор позднейшей Густынской летописи.
160
В Ипатьевской летописи: «месяца февраря в 15 день Масльное [не] дели» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 566). Но Масленица в 1171 г. продолжалась с 1 по 7 февраля; 15 февраля в этом году пришлось на понедельник второй седмицы Великого поста. Надо думать, что «ег» день в рукописи получился в результате испорченного чтения из «е»-й, т. е. 5-го числа.
161
Правильная дата в Хлебниковском списке. В Ипатьевском ошибочно: 30 мая. Ср.: Бережков. С. 338, прим. 138.
162
Здесь же, пожалуй, стоит заметить, что с «царскими» притязаниями Андрея Боголюбского и с политической и идеологической борьбой его времени иногда связывают ещё одно сочинение, сохранившееся в списках не ранее XV в., — «Повесть о царе Дариане». В ней осуждается некий древний царь Дариан (или Адариан, т. е. Дарий), которому пришло на ум назваться богом: в этом видят памфлет против Андрея (Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 87–90). Но это чисто переводной памятник, имеющий все черты сходства с другими переводными апокрифическими сочинениями, переписывавшимися в древней Руси (см.: Зайцев А. И., Каган М.Д. Повесть о царе Адариане // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 368–370).
163
Первый исследователь наплечников Г.Д. Филимонов писал, что первоначально эта их часть (правая) хранилась при мощах князя Андрея и лишь затем попала в ризницу собора. Это указание можно было бы рассматривать как твёрдое доказательство их принадлежности князю Андрею Боголюбскому. Однако ныне свидетельство Филимонова ставится под сомнение: ни в одной из сохранившихся описей собора ни о чём подобном не сообщается [Родина М. Наплечники Боголюбского или армиллы Барбароссы? // Родина. 2006. № 5. С. 65 (со ссылкой на: Филимонов Г.Д. Древнейшие западные эмали в России, приписываемые Св. Антонию Римлянину и Андрею Боголюбскому // Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1874. С. 22)].
164
В этом Абуласане одни историки видят армянина, «именитого купца, бывшего в разных краях по торговым предприятиям», или крупного армянского феодала (Еремян С.Т. Юрий Боголюбский в армянских и грузинских источниках // Научные труды Ереванского Государственного университета им. Молотова. Т. 23. Ереван, 1946. С. 395; автор отождествляет Абуласана с крупным армянским феодалом Амир-Курдом Арцруни, занимавшим при царе Грузии Георгии III наследственную должность «эристава эриставов и амира амиров Картлии и Тбилиси», а также министра финансов), а другие — грузинского дворянина или грузинского же купца, главу местной городской организации (Папаскири 3. В. Указ. соч. С. 141).
165
В Ипатьевской летописи сообщение о рождении княжича, заимствованное из Суздальской летописи, помещено не на своём месте, под 6680 г., среди событий 1169/70 г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 551). В Радзивиловской Василий ошибочно назван сыном Андрея (ПСРЛ. Т. 38. С. 135).
166
Лаврентьевская и Ипатьевская летописи содержат практически совпадающие рассказы о походе: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 364 (под 6680 г.); ПСРЛ. Т. 2. Стб. 564–566 (под 6681 г.). О походе сообщается, что он имел место «тое же зимы», после сообщения о смерти князя Глеба Юрьевича. Затем в Лаврентьевской летописи следует краткое известие о посылке Андреем на киевский стол князя Романа Ростиславича и вокняжении в Смоленске Романова сына Ярополка, неправильно датированное также зимой («тое же зимы»), хотя в действительности Роман прибыл в Киев летом 1171 г. (см. выше). Н.Г. Бережков видел здесь явное нарушение хронологии и датировал поход на Волжскую Болгарию зимними месяцами 1171/72 г. (Бережков. С. 77). С его мнением соглашаются большинство историков; см., напр.: Кучкин В.А. О маршрутах походов древнерусских князей… С. 37, прим. 38; и др. Однако никаких видимых оснований предполагать, что автор летописи нарушил хронологическую последовательность событий, у нас нет. Датировка похода «той же зимой», т. е. зимними месяцами 1170/71 г., после января (смерти Глеба), но до вокняжения Романа в Киеве, кажется предпочтительной.
167
Дополнительные сведения о походе приведены в «Истории» В Н Татищева. Здесь названа примерная численность «передней дружины» Мстислава «лучших людей с 2000 человек» По представлениям Татищева, хорошо знавшего регион, удар был нанесен не столько по болгарам, сколько по мордве, чьи «великие села» и были захвачены и разорены русскими Болгары нагнали Мстислава в восьми верстах от Оки (видимо, кириллическая цифра «к» (20) была прочитана Татищевым как «ы» (8)), когда воины Мстислава, «с полоном наперёд пущенные», переправлялись через реку. Но Мстислав, «хотя был с малым числом, однако ж, помощию Божиею, сохранно» отошёл. «И тако Мстислав возвратился в дом со многим полоном к великому обрадованию отца своего и народа…» [Татищев. Т. 3. С. 97].
168
Если же, вслед за большинством историков, датировать болгарский поход зимними месяцами начала 1172 года, то получится, что Мстислав умер совсем скоро после возвращения из него. В таком случае, может быть, от полученных ран?
169
Согласно преданию (впрочем, едва ли надёжному), некогда над гробницей князя Мстислава Андреевича возвышалась мраморная статуя, поставленная будто бы самим Андреем, но впоследствии утерянная; см.: Георгиевский В.Т. Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. С. 96, прим. Стоит, пожалуй, заметить, что подобные скульптурные надгробия были распространены в то время в Западной Европе.
170
Историк Русской церкви Е.Е. Голубинский в своё время предположил, что Глеб — это не кто иной, как князь Юрий (Георгий) Андреевич (Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. 2-е изд. М., 1903. С. 134–135, прим. 2). Заметим, что Голубинский не знал грузинских источников о Юрии Андреевиче и считал легендой указание Н.М. Карамзина на факт его женитьбы на царице Тамаре. Привлечение же грузинских источников (о них см. ниже, в следующей части книги) делает предположение исследователя, и без того кажущееся зыбким, совершенно невероятным. Между тем гипотеза Голубинского получила распространение в историографии. Так, она по существу принята составителями современной «Православной энциклопедии» (статья «Глеб Андреевич»: Т. 11. С. 562–565, автор соответствующего раздела А.В. Сиренов).
171
20 июня 1818 года мощи князя Глеба Андреевича были переложены в новую, также серебряную раку, в которой почивают и до настоящего времени. В феврале 1919 года, наряду с мощами других владимирских святых, мощи князя были подвергнуты вскрытию. В протоколе осмотра засвидетельствована их исключительно хорошая сохранность. Последний настоятель Свято-Боголюбовского монастыря Афанасий (Сахаров), впоследствии епископ Ковровский, причтённый ныне к лику святых, отмечал, что «тело святого… было мягким и гибким, и кожу на нём можно было схватить пальцами, она отставала, как у живого». Изъятые из собора, вместе с останками других владимирских святых мощи князя были впоследствии возвращены Церкви; в настоящее время находятся в Успенском соборе Владимира [См.: Православная энциклопедия. Т. 11. С. 562–565].
172
Между прочим, само наречение княжича можно было бы рассматривать как косвенное свидетельство того, что он появился на свет уже после смерти своего дяди, князя Глеба Юрьевича Киевского, последовавшей в январе 1171 года.
173
Как установлено исследователями, источниками для Жития князя Глеба являлись прежде всего тексты, хранившиеся во владимирском Успенском соборе: в частности, Житие князя Георгия (Юрия) Всеволодовича и «надгробные листы» над гробницами князя Андрея Боголюбского и митрополита Максима (из последнего заимствован рассказ о нашествии на Владимир царевича Талыча), а также некие «соборные летописи» (Православная энциклопедия. Т. 11. С. 562–564; издание «надгробного листа» над гробницей митрополита Максима: Сиренов А.В. Путь к граду Китежу. С. 78–80).
174
В.Н. Татищев полагал, что вражда между Андреем и князьями Ростиславичами началась именно с того, что Андрей передал Новгород сыну Юрию — в обход прав своих двоюродных племянников. Домысливая летописный текст, историк XVIII века воссоздавал переписку между князьями по этому поводу. «…Но ты учинил неправо, что взял наш Новград, — писали будто бы братья Андрею. — Ведаешь бо сам довольно, что Новград издревле принадлежит к великому князю рускому ко Киеву, а особливо новогородцы колико крат деду и отцу нашим и нам крест целовали, что нас не отступить. И ты сам то утвердил. А ныне, не объявя нам вины нашей, то нарушил». «На сие Андрей им ответствовал тако: “Вы весьма неправо Новаграда требуете, понеже новогородцы роту дали Владимиру (Святому? — А. К.) о старейшем в его поколении. А я есмь старейший междо всеми в племяни его”. За сие началась распря у Андрея с Ростиславичи». В этом споре Татищев считал правыми Ростиславичей, «но сила, — замечал он, — обыкла ломать закон» [Татищев. Т. 3. С. 99, 248–249, прим. 508; Т. 4. С. 281–282]. Соответственно, Татищев дополнял и распространял и другие, известные из летописи послания Ростиславичей к Андрею и Андрея к Ростиславичам.
175
В «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”» этот поход датируется 1174 г., без поправки на хронологический стиль Ипатьевской летописи (Прохоров Г. М., Творогов О.В. Игорь Святославич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995. Т. 2. С. 236–241). Н.Г. Бережков датирует поход 1171 г. — тем же, что и описанные выше и также летние события той же летописной статьи (Бережков. С. 189). Но летом 1171г. Рюрик Ростиславич находился в Новгороде и не мог участвовать в дележе «сайгата». Остаётся отнести поход к лету 1172-го — того же года, что и события, описываемые в той же статье ниже.
176
Всеволод и Ярополк будут захвачены в плен в Киеве «на Похвалу Святей Богородици» — очевидно, 1173 г., т. е. 24 марта (в субботу пятой недели Великого поста), а княжение Всеволодово продолжалось 5 недель (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 570; см.: Бережков. С. 189–190). Скорее всего, это надо понимать так, что началось оно в первую неделю Великого поста (19–25 февраля 1173 г.).
177
Автор поздней Густынской летописи, наоборот, понял текст так, что Михалко вынужден был уступить Переяславль Рюрику [ПСРЛ. Т.40. С.96–97].
178
Летописец именует княгиню-инокиню «благоверной», но захоронение её, по-видимому, затерялось, и в число владимирских святых Ольга-Евфросиния включена не была.
179
«А во усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне», статья 8-я Краткой редакции «Русской Правды», восходящей к установлениям Ярослава Мудрого. Такой же штраф тому, кто «порвет бороду, а въньметь знамение», то есть вырвет кусок, предусматривала статья 67-я более поздней Пространной редакции.
180
Относительно штрафа за палец в переводе М.Б. Свердлова сказано не вполне точно: «Если же по пальцу ударит какому-либо, то 3 гривны за обиду». Но в древнерусском тексте употреблён глагол «утнет», и, очевидно, речь идёт именно об отсечении пальца (ср., напр.: Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. С. 76).
181
Татищев. Т. 3. С. 103; Т. 4. С. 284. То же известие: «Выиде Рюрик из Новагорода» читается под 6682 г. в младшем изводе Новгородской Первой летописи (НПЛ. С.. 223). Возможно, это ошибочное дублирование известия под 6679 г.: и там, и там оно поставлено в связь с известием о вступлении в Киев князя Романа Ростиславича (ср.: Там же. С. 222). Показательно, что в читающейся в том же Комиссионном списке Новгородской Первой летописи статье «А се князи Великаго Новагорода» о вторичном княжении Рюрика Ростиславича, разрывающем княжение Андреева сына Юрия, ничего не сказано (Там же. С. 471).
182
Спустя почти 20 лет, в 1195 году, Мономашичи и Ольговичи почти дословно воспроизведут этот диалог при новом обмене претензиями и попытке заключить договор. Князь Рюрик Ростиславич с братом Давыдом и Всеволод Юрьевич Суздальский потребуют от Ольговичей целовать крест, что те не будут «искать» их «отчин», «как нас розделил дед наш Ярослав по Днепр, а Кыев вы не надобе». И Ярослав Всеволодович Черниговский, как старший в «Ольговом племени», ответит им словами покойного брата: «…Мы есмы не угре, ни ляхове. Но единого деда есмы внуци…» [ПСРЛ. Т. 2. Стб. 688–689. Ср.: Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. С. 111–112.] Так что Святослав Всеволодович и в самом деле нашёл очень удачный аргумент против претензий Мономашичей, и этот аргумент был задействован и позднее.
183
Один из поздних переписчиков летописного сказания об убиении князя (его так называемой «церковной обработки» XVI века) так охарактеризовал Андрея: «…бяше бо князь силен и рожею (лицом? или, может быть, грозою? — А. К.) исполнен» [Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития. Приложение. С. 88. В другом списке того же сказания (Там же, прим. 38–38) этих слов нет, как нет их и в редакции повести об убиении князя в составе Софийской Первой летописи — вероятном источнике данной «церковной обработки» сказания]. Видимо, это надо понимать так, что в гневе лицо князя искажалось внушающей страх гримасой.
184
Схожее имя Анбал, или Анбалан (Ανπαλ, Ανπαλαν), присутствует в Зеленчукской надмогильной надписи X–XII вв. — древнейшем памятнике аланского (осетинского) языка. «Такая форма вполне могла существовать как в качестве собственного имени, так и нарицательно», — констатирует В.И. Абаев.
В исторической литературе получила распространение мысль о том, что Анбал был иудеем (при этом зачастую ссылаются на распространение иудаизма в раннесредневековой Алании, правда, значительно более раннего времени). Основанием для такого предположения послужило то, что в рассказе о последующих за убийством князя событиях Кузьмище Киянин обращается к Анбалу со словами: «жидовине», а до того: «вороже» (т. е. «враже») и «еретиче» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 590; при этом стоит иметь в виду, что в устах православного человека слово «еретик», в точном его значении, к иудею явно не применимо). См. из последних работ, напр.: Фроянов И.Я. Древняя Русь… С. 644–645; Кривошеее Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского. С. 78–85 (последний автор, основываясь на предположении об иудейском происхождении Анбала, строит уже совершенно фантастическую и не имеющую ни малейшего отношения к реалиям Северо-Восточной Руси XII в. «религиозную версию» убийства князя, на некоторые, явно абсурдные положения которой обращалось внимание в литературе; см.: Левин Е. Еврейский след в убийстве Андрея Боголюбского // http://booknik.ru/context/all/evreyiskiyi-sled-v-ubiyistveandreya-bogolyubskogo). Это мнение принято и историками-гебраистами; см., напр.: Берхин И. Из давно минувшего (Материалы и заметки по истории русских евреев). 1. Андрей Боголюбский и евреи // Восход. СПб., 1883. Июль — август. С. 148–155; из последних работ: Кулик А. Евреи Древней Руси: Источники и историческая реконструкция // Ruthenica. Т. VII. Киев, 2008. С. 58–59; то же // История еврейского народа в России. Т. 1: От древности до раннего Нового времени / Под ред. А. Кулика. Иерусалим; М., 2010. С. 193–195; и мн. др. Однако не вызывает сомнений тот факт, что обращение «жидовине» не несёт в себе указания на этническое или религиозное происхождение одного из убийц князя, но является «топосом», «общим местом», представляя собой обвинение убийцам, уподобление их «жидам», предавшим и убившим Христа (ср. выше в том же рассказе Ипатьевской летописи: «…и тече… якоже Июда к жидом…»; «…и свещаша… якоже Июда на Господа»); см.: Петрухин В.Я. Евреи в древнерусских источниках. XI–XIII вв. // Там же. С. 231.
185
Соблазнительно было бы принять предположение историков о том, что Анбал попал во Владимир вместе со второй женой князя Андрея — подобно тому как братья Кучковичи оказались при дворе Андрея вместе с его первой женой, своей сестрой [См.: Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. С. 95]. Однако о том, что вторая жена Андрея Боголюбского была «ясыней», сообщает лишь В.Н. Татищев, к сведениям которого следует относиться с большой осторожностью (см. выше). Возможно, на «ясыне» был женат младший брат Андрея Всеволод, но был ли заключён этот брак уже в то время, и если да, то могло ли это иметь какое-нибудь отношение к происхождению Андреева ключника, совершенно непонятно. Осетинское имя Анбала может свидетельствовать о том, что прежде он был воином. Впрочем, в те времена воинами были почти все люди (за исключением священнослужителей), входившие в окружение любого князя.
186
Первым такое предположение, кажется, высказал ещё в первой половине XIX в. Н.С. Арцыбашев (Повествование о России. Т. 1. Кн. 2. М., 1838. С. 204); см. также: Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1. С. 528; и мн. др. В более поздних летописях — Московском своде конца XV в., Воскресенской и т. д. — имя этого человека передано как Офрем Моизович (ПСРЛ. Т. 25. С. 83; ПСРЛ. Т. 7. С. 89; и др.); в позднейшем Житии Андрея XVIII в. — Ефрем Моузовитин (см. Приложение 3).
187
О времени жизни преп. Никиты можно судить, исходя из имеющейся в тексте Жития даты исцеления им князя Михаила Всеволодовича Черниговского — 6694 (1186) г., но дата эта имеется не во всех редакциях Жития. В некоторых поздних списках названа и дата кончины святого, но по-разному: тот же 1186 или 6701 (1193) г. (Там же. С. 316; Ключевский В.О. Древнерусские жития святых… С. 47, прим. 1; достоверность обеих дат вызывает сомнения). По археологическим данным, захоронение преподобного относится ко второй половине XII — первой половине XIII в.; см.: Станюкович А.К. Гробница преп. Никиты Столпника, Переславского чудотворца. Церковно-археологический очерк. Звенигород, 2001. С. 21.
188
Напомню, что в «Повести о начале Москвы» убийство князя Андрея Юрьевича объясняется происками его княгини, ищущей «пригорновения и плотскаго смешения»: именно она приводит своих братьев Кучковичей к ложу «супружника своего» и «предает того в руце врагом… яко Сампсона Далида и яко убийственная Тиндарида сожителя своего, храбраго ироя». В другом варианте повествования — «Сказании об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы» — главным героем оказывается некий князь Даниил, персонаж, несомненно, вымышленный, чисто фольклорный, в котором, однако, угадываются черты как Андрея Боголюбского, так и жившего гораздо позже московского князя Даниила Александровича (t 1303): этот мифический Даниил тоже был убит по проискам жены, некой княгини Улиты Юрьевны, разгоревшейся блудной похотью к братьям Кучковичам, один из которых был стольником, а другой — чашником князя. Наконец, жену Андрея прямо обвиняет в соучастии в убийстве В.Н. Татищев. По его сведениям, она знала о заговоре и была «в Боголюбове с князем», но «того вечера уехала во Владимер, дабы ей то злодеяние от людей утаить». На другой день после убийства княгиня, «забрав всё имение, уехала в Москву со убийцы, показуя причину, якобы боялась во Владимире смятения народнаго» [Повести о начале Москвы. С. 178–179, 190; 200–201 и др.; Татищев. Т. 3. С. 105, 106; Т. 4. С. 285, 286].
189
Татищев. Т. 3. С. 108 (слова, обращенные племянником Андрея Мстиславом своему дяде Михаилу Юрьевичу). В первой редакции «Истории…»: «Убиша его за неправду, иж[е] неповинне люд губи добрый и во братии многу смуту положи» (Т. 4. С. 287). В других местах своей «Истории…» Татищев утверждал, будто Андрей был убит «по научению Глебову», имея в виду рязанского князя (Т. 3. С. 118), а также будто даже спустя год после убийства многие во Владимире полагали, что Андрей был убит «правильно» (Там же. С. 113).
190
В Москве даже в XIV в. полагали, что князь Андрей Юрьевич был убит «общею думою» едва ли не большинства своих подданных. Когда 3 февраля 1357 г. при загадочных обстоятельствах погиб московский тысяцкий Алексей Петрович Хвост, чей труп был найден утром на площади, по Москве пошли разговоры о том, что «втаю (втайне. — А. К.) свет сотвориша и ков коваша на нь, и тако всех общею думою, да яко же Андрей Боголюбый от Кучковичь, тако и сий от своеа дружины пострада»: ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 65 (свидетельство Рогожского летописца).
191
И в Лаврентьевской, и в Ипатьевской летописях повесть об убиении Андрея читается под 6683 г., что объясняется использованием в обеих т. н. ультрамартовского стиля; см. исчерпывающе: Бережков. С. 78–79, 191–193. Новгородская Первая летопись, устойчиво придерживающаяся мартовского стиля, датирует смерть Андрея 6682 г. Между тем дата 6683 г. попала в большинство поздних летописей, а затем и в другие памятники, где трансформировалась в дату 1175 г. как год смерти Андрея Боголюбского. Эта дата иногда встречается и в современной популярной, церковной и даже серьёзной научной литературе.
192
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 369. В последней фразе в рукописи слово «налезоша» начато с киноварного инициала. Но само по себе это не может рассматриваться как свидетельство того, что с этого слова начиналась новая фраза в оригинале. В Радзивиловской летописи в первом случае дата ошибочно показана как 29 июля (ПСРЛ. Т. 38. С. 138).
193
Так, в Тверском летописном сборнике, помимо сюжета с участием в заговоре жены князя, уточнена роль Якима Кучковича: оказывается, это именно он заговорил с князем через дверь от имени «парубка» Прокопия. В Львовской летописи сообщается, что оружие (мечи) убийцы получили от Петра, Кучкова зятя (ПСРЛ. Т. 20. С. 127). В т. н. «церковной обработке» летописной повести (по списку XVI в.) Прокопий назван «слугой и постельником» князя, но он здесь явно различается с тем «слугой кощеем», который находился вместе с князем в опочивальне (Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития. Приложение. С. 88).
194
Таковы выводы Д.Г. Рохлина и В.С. Майковой-Строгановой, с которыми согласились последующие исследователи. «Заметно, что убийцы не хотели находиться лицом к лицу с князем. Удары наносились преимущественно сбоку, слева от Боголюбского или сзади. Часть из них, наиболее вероятно, причинялась в лежачем положении, по истекающему кровью, потерявшему сознание человеку. Из всех ран наиболее тяжелой, могущей и самостоятельно привести к смерти оказалось проникающее ранение лобной кости черепа справа, при котором не исключалось повреждение головного мозга», — писал судмедэксперт М.А. Фурман, осматривавший костяк в мае 1982 года. «С определённостью можно сказать, что большинство зафиксированных дефектов костной ткани находятся на левой стороне скелета и задних поверхностях костей конечностей и производят впечатление нанесенных сверху, что соответствует нанесению ранений уже поверженному человеку с явной целью убить его», — делают выводы сотрудники Института этнологии и антропологии РАН и кафедры антропологии биофака МГУ, работавшие с останками князя в 2010 году [Фурман М. Андрей Боголюбский: Прикосновение к тайне. С. 59–62; Васильев С.В. и др. Антропологическое исследование… С. 68].
195
Более поздними летописцами слово «рыгати» не было понято и заменено другими: «тръгати», «стенати», «рыкати» и т. д. [«Тръгати»: ПСРЛ. Т. 41. С. 100 (Летописец Переяславля Суздальского); «стенати»: ПСРЛ. Т. 7. С. 89 (Воскресенская); Т. 25. С. 84 (Московский свод конца XV в.); «рыкати»: ПСРЛ. Т. 20. С. 127, 128 (Львовская); ГИМ. Син. № 964. Л. 403 («Летописец Поярка Карпова»); «рыдати»: Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития. Приложение. С. 88, прим. 47 (один из списков «церковной переделки» летописного сказания об убиении князя).]
196
Своё решение этой загадки предложил И.Н. Данилевский. В упоминании «десной» руки князя исследователь увидел осуждение Боголюбского («И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя…»: Мф. 5: 30) и скрытый намёк на «дело» «лжеепископа» Федорца, у которого также была отрублена именно правая рука. И.Н. Данилевский считает, что фраза об отрубленной руке может представлять собой след некой «редакционной работы, обличающей князя и реабилитирующей в какой-то степени его убийц» (Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников… С. 85–90). Однако в панегирической и в целом, и в частностях летописной повести об убиении князя едва ли возможно увидеть некий «зашифрованный» текст; это вообще несвойственно древнерусской литературе, на что уже обращалось внимание; см.: Ратин А. М., Лаушкин А.В. К вопросу о библеизмах в древнерусском летописании // Вопросы истории. 2002. № 1. С. 128–130. Может быть, в связи со всей этой историей стоит вспомнить предположение В.Н. Звягина о том, что князь, вероятно, был левшой (см. прим. 11 к части 1)? Но даёт ли это что-нибудь для разрешения загадки, я не знаю.
197
Высказывалось предположение, что с телом князя поступили так, как принято было поступать с так называемыми заложными покойниками, т. е. с умершими неестественной смертью, которые, в соответствии с языческими представлениями, считались опасными для живущих и потому подлежали особому способу погребения — без закапывания в землю (см.: Кривошеее Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского. С. 120–131; с ссылкой на: Зеленин Д.К. Избранные труды: Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М., 1995). Но даже если предположить, что Андрей действительно относился к категории «заложных покойников» (что совсем не очевидно), то всё равно остаётся тот же вопрос: почему к погибшему в результате жестокого убийства князю отнеслись подобным образом? Ведь само по себе убийство князя и внезапная смерть без покаяния отнюдь не делали его недостойным христианского погребения. Достаточно вспомнить, например, смерть и последующие почести, оказанные погибшим от рук убийц князю Изяславу Ярославичу (1078 г.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 202) или его сыну Ярополку (1086/87 г.: Там же. Стб. 206).
198
Между прочим, закрадывается подозрение: не с ошибкой ли в летописном тексте мы имеем дело и не сообщалось ли в первоначальной версии летописной повести о том, что князь был положен в Боголюбовской церкви в день святых Косьмы и Дамиана? Тогда Арсения можно было бы счесть игуменом Боголюбского Рождественского монастыря, а в упомянутых им «старших игуменах» увидеть игуменов стольного Владимира. С другой стороны, если речь идёт именно о Космодемьянской обители, то нельзя не предположить, что с ней был тесно связан Кузьмище Киянин, несомненно, особенно почитавший своего небесного покровителя.
199
В Троицкой летописи к «детским» и «мечникам» добавлены также «постельники»: Троицкая летопись. С. 254.
200
От лат. spolio — «снимать одежды», «раздевать».
201
Свобода зверствования (лат.).
202
Сравнение князя Андрея с солнцем восходит к сочинению киевского времени — «Чуду святого Климента, папы Римского, о отрочати», в котором прославляется небесный покровитель Киева Владимировой поры — святой Климент Римский, чьи мощи были принесены в Киев Крестителем Руси Владимиром из поверженного им крымского города Корсуня. В той переделке «Чуда», которая, по всей вероятности, принадлежит книжникам Андрея Боголюбского, о Клименте говорится очень похоже: «…Не постави прекрасьнаго солнца на едином месте, а оттуда с высоты вселеную просвещающе, но и въсток, и полудень, и до запад преходити ему, славно дарова на похвалу своему велелепному имени. Тако и сего своего угодника, нашего же заступника святаго священномученика Климента, от Рима в Херсон, от Херсона в нашю Рускую страну сътвори прити Христос Бог нашь…»
[Карпов А.Ю. Древнейшие русские сочинения о св. Клименте Римском // Очерки феодальной России. Вып. 11. М.; СПб., 2007. С. 101. Есть основания полагать, что «Чудо св. Климента о отрочати» представляет собой переработку более раннего похвального слова Клименту Римскому, выполненную во Владимиро-Суздальской Руси именно в княжение Андрея Боголюбского: она «очищена» от собственно киевских реалий и приспособлена для общецерковного прославления св. Климента вне Киева (Там же. С. 79–80,91). Ср. т. н. Слово на обновление Десятинной церкви — более ранний (и именно «киевский») вариант «Чуда св. Климента об отрочати», дошедший до нас, к сожалению, не в рукописи, но лишь в неполной копии XIX в.; данный фрагмент, в частности, сохранился не полностью: он же. «Слово на обновление Десятинной церкви» по списку М.А. Оболенского//Архив русской истории. Вып. 1. М., 1992. С. 109].
Ещё раньше то же сравнение было использовано книжниками Андрея Боголюбского в Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери — в первых строках этого сочинения, программного для князя Андрея: «Яко бо солнце створи Бог, не на едином месте постави, егда светить, обиходя всю вселеную, лучами освещаеть, тако же и сий образ Пресвятьы Владычица нашея Богородица Приснодевы Мария не на едином месте чюдеса и дары исцелениа истачаеть, но обьходящи вся страны мира просвещаеть и от недугь различьных избавляет» [Кучкин В. А., Сумникова Т.А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 503].
203
Ещё позднее, в Летописце Переяславля Суздальского, созданном в княжение Всеволодова сына Ярослава, последняя фраза получила такое развитие: «…молися помиловати князя нашего и господина Ярослава, своего же приснаго и благороднаго сыновца (племянника. — А. К.), и дай же ему на противныя, и многа лета с княгинею, и прижитие детий благородных, и мирну дръжаву его, и царьство небесное в бесконечныя векы» (ПСРЛ. Т. 41. С. 101).
204
По Татищеву, вече собралось в Суздале (Татищев. Т. 3. С. 106).
205
Впервой редакции «Истории…» этого рассказа нет; лишь в примечаниях к основному тексту сообщается, что источники «разногласят»: одни говорят о том, что убийц казнил Михаил, а другие — что Всеволод, который повелел им «переломати кости и в коробех в озеро опустити» и т. д. (Там же. Т. 4. С. 449, прим. 368). В Воронцовском списке второй редакции указанный текст написан на вклейке (Там же. Т. 3. С. 284, прим. 20–20).
206
У В.Н. Татищева (Т. 3. С. 117) победа датирована 20 февраля, но это объясняется тем, что он высчитывал понедельник первой недели поста уже следующего, 1178 г. О «дряхлости» Глеба: ПСРЛ. Т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью (продолжение). М., 2000 (репринт изд. 1885 г.). С. 4.
207
В Лаврентьевской летописи здесь пропуск, фраза обрывается на полуслове (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 385–386). В Радзивиловской и Летописце Переяславля Суздальского об ослеплении князей вообще не сообщается, сказано лишь: «…И пустиша ею из земли» (ПСРЛ. Т. 38. С. 146; ПСРЛ. Т. 41. С 109). Краткое окончание «владимирской» версии событий см. в Московском летописном своде конца XV в.: ПСРЛ. Т. 25. С. 88–89.
208
Дату смерти Глеба Рязанского во владимирском плену называет Ипатьевская летопись, но по-разному: 30 июня (в Ипатьевском списке) или 31 июля (в Хлебниковском): ПСРЛ. Т. 2. Стб. 606. Автор Новгородской Первой летописи сообщает о смерти Глеба «в порубе» под 6685 (1177) г.: НПЛ. С.. 35, 224.
209
Татищев. Т. 3. С. 119. Или, как сказано в первой редакции «Истории…», «повеле има намазати очи и лица кровию, показа народу, яко избодены очи ею» (Т. 4. С. 292). При этом сам В.Н. Татищев ссылался на показания «Раскольничего» и «Хрущовского» манускриптов (Т. 3. С. 250, прим. 522; Т. 4. С. 451, прим. 375), но в достоверности его отсылок позволительно усомниться (см.: Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 272–273).
210
По версии В.Н. Татищева, ещё на вече в июле 1174 г. «старые вельможи все согласовали Юрия и Михалка призвать, и доколе Юрий в совершенство придёт, Михалко имеет всем управлять», однако этого не случилось из-за противодействия Андреевых убийц «с их сообщники» и рязанских послов (Татищев. Т. 3. С. 106). Достоверность и этого известия сомнительна.
211
Где именно находился город «царя Севенджа», неясно. Ранее полагали, что где-то на реке Сундже, возможно, в районе нынешнего Грозного (принимая имя «царя» за географическое название), но позднее это мнение было оставлено. Во всяком случае, сам Севендж был тесно связан с Грузинским царством: известно, что в 1192 г. его брат Салават находился на службе у грузинской царицы Тамары (Там же. С. 56; ср.: Мургулия М. П., Шушарин В.П. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII вв. М., 1998. С. 154). Обычно половецкие города назывались по имени живших в них ханов. В русских источниках упоминается «дикий» половецкий князь Севенч Бонякович (сын знаменитого Боняка), бывший, между прочим, союзником Юрия Долгорукого. Но он погиб ещё в 1151 г. под Киевом, в той самой неудачной для Юрия Долгорукого битве, в которой отличился Андрей Боголюбский (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 432).
212
Тамара, царица Грузинская, причислена Церковью к лику святых. Её память празднуется 1 мая (14-го по новому стилю).
213
Примечательно, что в грузинских источниках русский супруг царицы Тамары ни разу не назван по имени (хотя приведены имена его отца и дяди). Его имя — Георгий — называет лишь армянский историк второй половины XIII — начала XIV века Степанос Орбелян. [См.: Еремян С.Т. Юрий Боголюбский в армянских и грузинских источниках. С. 396. По мнению С.Т. Еремяна, имя Георгия сохранилось также в двух армянских памятных надписях, сделанных «в царствование царя Георгия победителя» или «в царствование над грузинами Георгия» (Там же. С. 389–421)].
214
Это будто бы следует из надписи над южной дверью храма, в которой упоминаются имена Абуласана и некоторых других близких ему лиц, а относительно лица, погребённого в церкви, оставлен многозначительный пропуск.
215
Со ссылкой на выписки из святцев конца XVII в., хранившихся у жителя Ростова Н.А. Кайдалова, архиеп. Сергий указал, что память 2 октября отмечалась «по случаю создания Покровской обители близ Боголюбова» (Там же. С. 196; под 2 октября ничего подобного не сообщается). Думаю, однако, что помещение памяти Андрея под этим днём вызвано его соимённостью со св. Андреем Юродивым.
216
Сохранилась жалованная грамота Ивана Грозного владимирскому Успенскому собору 1550 г. с позднейшей припиской, «из которой следует, что Боголюбовский монастырь должен платить Успенскому собору за панихиды над гробом Андрея Боголюбского»: «…по два рубли денег, хлеба ржи и овса по двенацети четь» (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 208; о грамоте: он же. О грамоте Ивана Грозного Успенскому собору г. Владимира // Историография и источниковедение отечественной истории. Вып. 2. СПб., 2002. С. 27–34).
217
Впоследствии во Владимире и Боголюбове полагали, что этот «лист» был положен над гробом князя «для незабвеннаго ведения пред будущим родом» ещё Симоном, первым епископом Владимирским, жившим в начале XIII в.; ср. выписку из Жития Андрея Боголюбского XVIII в. с включением текста «надгробного листа»: Доброхотов В.И. Древний Боголюбов город… С. 88–89.
218
Традиционно датой канонизации князя Андрея Боголюбского называют 1702 г. (Доброхотов В.И. Памятники древности во Владимире Кляземском. С. 31 (надпись на гробнице князя); Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. С. 134; и др.). А.В. Сиренов, однако, обратил внимание на то, что в источнике перенесение мощей князя датировано октябрём 7210 г. Если здесь использован обычный сентябрьский стиль (что кажется наиболее вероятным), то эта дата должна быть переведена на наш стиль как октябрь 1701-го (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 208, 236–237, прим. 5; странно, правда, что в цитате речь идёт не о 15-м, а о 5 октября).
219
ГИМ. Увар. № 2081. Л. 16–31 об. (сведения о рукописи и сам текст см. в Приложении 3). В данной редакции Жития текст сокращён более чем вдвое по сравнению с опубликованным А.В. Сиреновым. Так, сокращены вся начальная часть Жития с описанием добродетелей и внешнего облика Андрея; описание иконы Владимирской Божией Матери; молитва Андрея к иконе в рассказе о чудесной остановке коней на месте будущего Боголюбова монастыря; вся средняя часть Жития — после рассказа об основании монастыря до смерти младшего сына Глеба; предсмертная молитва Андрея (что особенно странно); заключительная похвала князю. В некоторых случаях при сокращении текста возникли явные неувязки. Например, сообщается, что вышгородские клирики, «входяще в церковь, видеша той Богородичный чудотворный образ стоящ о себе кроме святыя трапезы, и начата оттоле бывати различная чудеса» (Л. 17 об.). Но чтобы увидеть икону, стоящую «кроме (вне. — А. К.) трапезы», нужно было войти в алтарь: это было уже последнее, а не первое перемещение иконы в Вышгородском храме, о чём и рассказывается в источнике этой части Жития — Сказании о Владимирской иконе в редакции Степенной книги, да и в самом Житии в редакции иеромонаха Иоасафа. Или сообщается о том, что Андрей пребывал «в великокняжеском своем доме, яже приделан бысть к церкви… идеже и ныне… видими суть» (Л. 27 об.). Глагол стоит во множественном числе, что не согласуется с существительным «дом». Этой ошибки нет в полной редакции Жития, где речь идёт о пребывании Андрея «в полатых своих» — «яже приделаны… и ныне видими» (Сиренов А.В. Житие Андрея Боголюбского. С. 233). В то же время очевидно, что сокращённая редакция Жития восходит к тексту, отличному от изданного А.В. Сиреневым. Из сравнения единственного совпадающего с ней фрагмента, процитированного в книге о Боголюбовом монастыре В.И. Доброхотовым, — об основании монастыря (Древний Боголюбов город и монастырь… С. 6–7), можно сделать вывод, что данная редакция восходит к той, к которой восходила и бывшая в распоряжении Доброхотова и хранившаяся в его время в Боголюбове монастыре. Так, в обеих редакциях говорится о том, что Андрей двигался по Клязьме «от Владимира яко седмь поприщь» (Л. 21; в редакции Иоасафа этого нет); о том, что Богородица велела князю: «…Церковь каменную воздвигни и обиталище иноком состави» (Л. 23; у Иоасафа: «..Храм созижди и обиталище иноком сотвори»); в обеих нет имени иерея Николая, которому князь велел совершать молебное пение на месте остановки коней. Ещё одно, более существенное разночтение, объединяющее сокращённую редакцию с редакцией Доброхотова, свидетельствует о том, что обе они восходят к более исправному, более близкому к первоначальному варианту Жития, нежели тот, который копировал Иоасаф. (К такому же выводу пришёл и А.В. Сиренов, сравнивая две известные ему версии Жития: Житие Андрея Боголюбского. С. 215.) В редакции Иоасафа отсутствует указание на то, что князь поставил в новопостроенной церкви Рождества Богородицы Боголюбова монастыря не только Боголюбовскую, но и в первую очередь Владимирскую икону, «иже из Вышеграда принесе с собою» (Л. 24), — а это указание, скорее всего, имелось в оригинале — первоначальной версии Жития. О том же свидетельствует и сравнение сокращённой редакции с одним из источников Жития — Сказанием об иконе Владимирской Божией Матери в редакции Степенной книги (см.: ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 426–428). Более исправные, т. е. совпадающие со Степенной книгой, чтения сокращённой редакции по сравнению с редакцией Иоасафа: «…и нача по святым иконам с сердечною любовию и страхом взирати» (Л. 18–18 об.; ср. у Иоасафа: «…и нача по святым иконам взирати с благоговением»); «Не возвести же сего благочестивому отцу своему… яко той образ хотяше взяти с собою, послушав злолукаваго совета ближних своих боляр окаянных Кучковичев» (Л. 19; в редакции Иоасафа выделенных курсивом слов нет); река, через которую переправляются люди Андрея, называется Вуза (у Иоасафа — Яуза), а человек на коне послан «испытати броду» (Л. 19 об.; у Иоасафа: «воду»); на Рогожских полях конь «диаволим действом… разсвирепевся» (Л. 20; в редакции Иоасафа выделенных курсивом слов нет).
220
А ещё память князя отмечается ныне 23 июня (6 июля) — в Соборе Владимирских святых и 10 (23) октября — в Соборе Волынских святых.
221
В списке ИРЛИ: В той же день
222
В других списках нет.
223
В списке ИРЛИ: уставихом
224
В списке ИРЛИ: отци и Также и в Забелинском списке: святии отци
225
В списке ИРЛИдоб.: устави
226
В списке ИРЛИдоб.: с
227
В Забелинском доб.: рабу твоему
228
В списке ИРЛИ: нам, грешным
229
В списке ИРЛИ: даяние
230
В списке ИРЛИ: всяк дар съвершен
231
В списке ИРЛИ: посылаета
232
В списке ИРЛИ: и присно и в бесконечные веки
233
В Егор. № 637 пропуск. Восстанавливается по списку ГИМ. Син. № 997 конца 40-х гг. XVI в. (Успенский комплект Великих миней четьих митрополита Макария).
234
Слово «грешный» написано на правом поле почерком Максима Грека (здесь и ниже прим. издателей).
235
Слово «сице» и буква «в» написаны над строкой почерком Максима Грека.
236
Дописано на правом поле Максимом Греком.
237
Вси на написано по исправленному.
238
Князя же великаго исправлено из первоначального Князь же великий
239
По-другому, 4 июня.
240
Возможно, раньше, ещё при жизни отца.
241
По-другому 2 мая.
242
В соответствии с поздней редакцией Жития святителя Леонтия, 1164 год.
243
По сведениям поздней редакции Жития святителя Леонтия, 1170 год.
244
Дата предположительная.
245
По другим сведениям, 1160 или 1162 годы.
246
По-другому, 28 октября 1164 года.
247
По-другому, в 1165 году.
248
По-другому, 15 февраля.
249
Возможно, следующей зимой, 1171/72 года.
250
Дата позднего Жития святого Глеба; является сугубо предположительной, как предположительно само существование сына Боголюбского с таким именем.
251
Менее вероятно, в ночь с 29 на 30 июня.
252
По-другому, 5 июля.
Автор книги - Алексей Карпов
КАРПОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ родился 5 мая 1960 года в Москве. В 1982 году окончил МГПИ им. Ленина. Работает редактором в издательстве «Молодая гвардия». Историк, писатель, член Союза писателей России, автор книг в серии «ЖЗЛ»: «Владимир Святой», «Ярослав Мудрый», «Юрий Долгорукий», «Княгиня Ольга», «Александр Невский», «Батый». «Сказания русских летописей». Автор более ста исторических публикаций.
