Онлайн книга
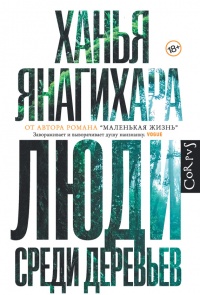
Примечания книги
1
В Пало-Альто, штат Калифорния, где я работаю по стипендии имени Джона М. Торренса в отделении иммунологии Медицинской школы Стэнфордского университета.
2
А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 24 апреля 1998 г.
3
А. Нортон Перина д-ру Рональду Кубодере, 3 мая 1998 г.
4
Когда я упоминаю У’иву, я имею в виду страну в целом, а не конкретный остров; как вскоре станет ясно, Нортон провел большую часть времени на острове Иву’иву.
5
Оуэн, о котором говорит Нортон, – это Оуэн С. Перина, брат-близнец Нортона, один из тех немногих взрослых людей, с которыми у него на протяжении многих лет продолжались важные и осмысленные отношения. В отличие от Нортона, Оуэн всегда интересовался литературой; в наши дни он известный поэт и профессор поэзии по стипендии Филд-Пэти в Бард-колледже. Он дважды получал Национальную книжную премию США в поэтической категории: за сборник «Насекомые ноги и другие стихотворения» (1984) и «Книга под подушкой Филипа Перины» (1995), имеет и многие другие награды. Оуэн так же славится своей неразговорчивостью, как Нортон – громкими суждениями, и однажды, на рождественских каникулах у Нортона несколько лет назад, я наблюдал крайне интересный их диалог. Нортон расхаживал по гостиной с полной горстью орехов, плевал, жевал, жестикулировал, высказывался обо всем, от умирающего искусства пришпиливания коллекционных бабочек до странной привлекательности некоторого телевизионного ток-шоу, а напротив, сгорбившись его мрачным зеркальным отражением, сидел Оуэн, который время от времени что-то согласно или несогласно бормотал или хмыкал.
К сожалению, Нортон с братом сейчас непримиримо разошлись. Как станет ясно из этого повествования, их разрыв оказался внезапным и разрушительным; он стал результатом чудовищного предательства, которое Нортон никогда не сможет простить.
6
Оуэн Перина написал довольно симпатичное стихотворение о своей матери и ее смерти; оно открывает его третий сборник, «Моль и мед» (1986).
7
Можно лишь вообразить, какую жизнь могла бы прожить Сибил Мария Перина (1893–1945), родись она на пятьдесят лет позже. Великий профессор-медик и анатом Э. Исайя Уиткинсон, под чьим руководством она училась в Северо-Западном университете, даже писал про нее одному из своих коллег в 1911 году:
«[Эта] ученица наделена множеством талантов, равно как элегантностью и сноровкой. Научному сообществу остается лишь пожалеть, что она не сможет заниматься медицинскими исследованиями. Я даже настоятельно советовал [ей] подумать о поездке за границу с христианскими миссионерами – этот шаг, к сожалению, предоставил бы ей большую независимость и большие возможности, чем любой университет. Однако она отказалась – от неотступного ли желания остаться рядом с семьей (недостаток, свойственный многим студенткам) или опасаясь тяжелых трудов в неясных обстоятельствах, сказать не могу. Бесспорно, она способна заниматься любым ремеслом, хотя, скорее всего, прирожденный домашний консерватизм спутает ее тенетами какой-нибудь непритязательной провинциальной врачебной практики. Ей станет скучно; ей станет противно». («Жизнь врача. Письма Э. Исайи Уиткинсона». Под редакцией Фрэнсиса Клэппа. Нью-Йорк, «Коламбия-Юниверсити-Пресс», 1984.)
К сожалению, Сибил не опровергла мрачные, но пророческие предсказания Уиткинсона. Ее некролог в газете «Рочестерские безделицы» оскорбительно короток и отчаянно печален: «Доктор Перина работала врачом в Рочестере на протяжении тридцати с лишним лет… Она никогда не была замужем и наследников не оставила». Тем не менее Сибил все-таки оставила великое наследие; как не раз говорил Нортон, именно она направила его к миру научных открытий и возможностей. Так что неосуществленные мечты Сибил, можно сказать, возродились в одном из самых выдающихся медицинских умов современности: он добился для нее того, что было не под силу ей самой.
8
Боюсь, что здесь я вынужден не согласиться с Нортоном. Но пусть читатель рассудит самостоятельно. Вот начало этой заметки:
Абрахам Нортон Перина. Родился в 1924 году в Линдоне, штат Индиана, США.
Где живет сейчас: Бетесда, штат Мэриленд, США.
Значимость: 7 [Примечание: по шкале от 1 до 10. Загадочным образом Галилею приписана десятка, как и Джонасу Солку. А Коперник заслужил лишь восьмерку.]
Все мы слышали, что никто не живет вечно. Но знаете ли вы, что есть люди, которым это все-таки удается? Честное слово! Доктор Перина – он живет в Мэриленде со своими многочисленными приемными детьми, их больше пятидесяти! – обнаружил в начале 1950-х годов племя людей, которые никогда не стареют. И все потому, что они едят мясо одной редкой черепахи! В результате своих исследований доктор Перина в 1974 году получил Нобелевскую премию по медицине.
Дальше в книге приводится неточное и упрощенное описание синдрома Селены.
9
Филип Таллент Перина (прибыл в 1969 г.; ок. 1960–1975) – ранний приемный ребенок Нортона, один из его любимцев. Филип был худ, ребячлив и очень темнокож. Я не был с ним знаком, но по многочисленным фотографиям, которые хранились у Нортона, представляю себе его быстрым и подвижным; на любом снимке он как будто пытается вырваться у Нортона из рук и вообще из пределов фотографии. Несмотря на живость, Филип страдал от какой-то детской патологии мозга, и его физическое развитие тоже было затруднено, возможно, в результате голодания в младенчестве. Он был сиротой и чем-то вроде деревенского талисмана, когда Нортон привез его с У’иву в 1969 году. (До того как он оказался под опекой Нортона, его знали под именем, примерно означавшим «Эй, ты!».) В 1975 году Филип попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель; в тот момент ему было около пятнадцати лет.
10
Хотя сделать такой вывод после бесславной смерти отца было непросто, он скопил немалое состояние. Конкретная сумма так и не была раскрыта, но биографы Нортона считают, что ее хватило на беспрепятственную покупку дома в Бетесде, воспитание и образование детей. Нортон, наряду с Оуэном, должен был также унаследовать имущество Сибил.
11
Я удивился, прочитав это признание. Очень удивился, по причинам, которые станут ясны читателю позже. Могу только сказать, что больше всего Нортон всегда опасался быть покинутым – он боялся, что люди, которых он любит, которым доверяет, в один прекрасный день окажутся с ним по разные стороны баррикад. (К сожалению, это опасение оказалось провидческим.) Но я уже отметил, что к его нынешнему положению привело не только предательство его детей, но и предательство Оуэна.
Интересно, что я узнал о существовании Оуэна только через четыре года после того, как познакомился с Нортоном. Когда я спросил его об этом много лет спустя, он лишь усмехнулся и заметил, что они в тот момент, должно быть, из-за чего-то поссорились. Подобные длительные периоды молчания и частые мелкие стычки были характерны для отношений Нортона с Оуэном, который, как он отмечает, был равен ему по глубине и широте знания и мнений (хотя, разумеется, не того же самого знания и иных мнений). Однако Оуэн отлично оттенял Нортона – возможно, это единственный человек, который был таким же блестящим, эксцентричным и страстным. Некогда я испытывал к нему очень теплые чувства.
12
Гамильтон-колледж, диплом с особым отличием, 1946; Гарвардская медицинская школа, диплом с отличием, 1950. И Нортон, и Оуэн получили армейскую отсрочку в 1944 году. Нортон – из-за плоскостопия и хронического ишиаза, а Оуэн – из-за астмы и сильнейшего астигматизма.
13
Известный профессор может выбрать одного или максимум двух своих самых многообещающих студентов, в том числе студентов-медиков, чтобы они работали в его лаборатории от одного до четырех семестров. Этих студентов, как правило, выбирают на основании их учебы, оценок за контрольные работы, целеустремленности и аккуратности.
14
Трудно переоценить значение и роль Грегори Смайта в жизни научного сообщества 1940–1950-х годов. Пока его теории не вышли из моды, Смайт оставался одним из редких ученых, которые добились массового признания и известности; журнал «Тайм» 18 апреля 1949 года даже вышел с его портретом на обложке в сопровождении такого заголовка: «Грегори Смайт, Гарвардский университет: «У нашего поколения есть возможность победить рак».
15
Нортон здесь немного увлекается сарказмом. Ряд онкологических заболеваний действительно связан с вирусными инфекциями (особенно папилломавирус человека, а также гепатит B и C); он издевается над убеждением Смайта, что любой рак напрямую связан с вирусными инфекциями.
16
Когда выводы Смайта были опровергнуты, он попал в немилость, но трудно не признать, что виновником собственного унижения отчасти оказался он сам. Смайт славился высокомерием и имел множество неприятелей в академическом сообществе; когда ситуация обернулась против него, он сопротивлялся и оскорблял критикующих, вместо того чтобы просто с достоинством отступить в тень. Поскольку Смайт находился в должности пожизненного профессора, он оставался в Гарварде до самой смерти в 1979 году от рака печени (в чем была горькая ирония), хотя видно его было все меньше, и с 1968 года он был переведен, по сути дела, на постоянный испытательный срок.
Как и предполагал Нортон, у Смайта действительно была семья – жена и две дочери. Интересно, что в наши дни они, а не он, хорошо известны в контркультурных кругах как руководители небольшой, но влиятельной феминистской группы наподобие «Синоптиков», которую они основали в 1967 году. Нортон, вероятно, ужинал в доме Смайта вскоре после того, как его жена, поэтесса Элис Рив, бросила его и сбежала с детьми в Канаду со своей любовницей, профессором поэзии из колледжа Рэдклифф по имени Стелла Янович. Но это – сюжет для отдельной истории.
17
Один из выдающихся хирургов и биологов своего времени, Адольфус Густав Серени (1896–1974) был одним из самых значительных преподавателей Гарвардской медицинской школы, когда там учился Перина. У них с Периной сложились плодотворные, а после напряженные взаимоотношения, о которых в этом повествовании еще пойдет речь.
18
Контакт был на самом деле опосредованный: со Смайтом приятельствовал один из коллег Таллента в Стэнфорде, а не сам Таллент.
19
Ныне Кирибати.
20
Этот распространенный миф происходит, вероятно, от сочетания двух фактов: во-первых, все у’ивские мальчики получают копье на свое четырнадцатилетие; во-вторых, первый король этих островов, Улоло Могущественный – который объединил многочисленные племена, разбросанные по всему архипелагу, примерно в 1645 году; его дело было завершено королем Вакой I через сто с лишним лет – якобы голыми руками убил дикого вепря, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. С тех пор вепрь занимал важнейшее место в у’ивской жизни: хотя это главный спутник охотника и символ свирепости этой цивилизации по отношению к внешнему миру, убийство или приручение вепря тоже считается важным достижением, доказательством силы и храбрости воина. Фундаментально двойственная природа этого животного в у’ивском обществе – он одновременно друг и противник, – кажется, никогда не беспокоила у’ивцев.
21
Из всех персонажей, проследовавших за последние полвека по стезе антропологии, Пол Джозеф Таллент (1916–?), вероятно, остается самым удивительным и непознаваемым. Родившись, скорее всего, у матери из племени сиу, он с младенческих лет рос в сиротском приюте Святого Иосифа для мальчиков в городке Клауд-Прэри, непосредственно примыкающем к Пирру, Южная Дакота (территория города входит теперь в черту столицы штата, название он утратил). Приют Святого Иосифа был католическим детским домом с непропорционально большим количеством мальчиков-индейцев; он славился, в частности, тем, что обучал своих воспитанников различным ремеслам, в том числе сантехническим работам и плотницкому делу. Таллент привлек внимание одного из преподавателей, брата Петра (в миру его звали Майкл Таллент, и свою фамилию Таллент, несомненно, позаимствовал у него, поскольку по умолчанию всем мальчикам в приюте Св. Иосифа автоматически присваивалась фамилия Джозеф), который обучал его и обеспечил ему стипендию в школе Св. Франциска, католическом интернате в Пирре. В интернате Таллент учился превосходно и завоевал сначала стипендию Дартмурского колледжа (где получил диплом бакалавра гуманитарных наук в 1937 году), а затем Чикагского университета, где в 1941 году защитил диссертацию (как и Нортона, Таллента не взяли на военную службу, хотя на каком основании – неизвестно). Он действительно был, как отмечает Нортон, очень хорош собой, и этот факт способствовал возникновению той атмосферы героической романтики, которая позже стала его сопровождать.
Таллент слыл выдающимся молодым дарованием с первых же шагов в Чикаго, где он преподавал на протяжении трех лет после получения докторской степени, а затем и в Стэнфорде, ставшем его постоянным академическим обиталищем. В Чикаго он нашел себе наставника в лице выдающегося антрополога Лео Дюплесси, изучавшего в тот момент репродуктивные ритуалы народа хавава, небольшого племени из джунглей Папуа – Новой Гвинеи; несомненно, Дюплесси в значительной степени сформировал научные склонности и сферы интересов Таллента. Предполагается, что Дюплесси, который умер в 1943-м, помог Талленту организовать его первую поездку на У’иву в том же году, но в архиве Дюплесси такой информации нет, и судить об этом с уверенностью невозможно.
Среди многочисленных сетований биографов и ученых, которые позже занимались жизнью и деятельностью Таллента, главное место занимает отсутствие записок и каких бы то ни было личных материалов. Многие просто не могут поверить, что Таллент, так скрупулезно документировавший каждую подробность в полевых условиях, не оставил никакого дневника или по крайней мере переписки. Этот пробел, наряду с его трудами и исчезновением, которое по-прежнему остается загадкой (Нортон пишет об этом позже), разумеется, только подстегивает интерес к фигуре Таллента, так что несколько историков уже много лет пытаются составить его максимально полные жизнеописания. (Поскольку Нортон относится к числу тех людей, что работали с ним теснее многих в самый плодотворный период его исследований, к нему часто обращаются с просьбами об интервью и воспоминаниях.) Мне же кажется, что за эту задачу следует браться скорее романисту, нежели историку: к неразгаданным сторонам жизни Таллента относятся его сексуальная ориентация, его происхождение, подробности его детства, его любовная жизнь (или ее отсутствие) и, конечно, обстоятельства его смерти. Он предоставил плодотворную почву теоретикам заговора всех мастей, и в некоторых маргинальных сообществах гуманитариев даже почитается как некий мистик.
22
Это не соответствовало действительности. Дафф, в тот момент преподаватель отделения антропологии Стэнфордского университета (она специализировалась на деревенской жизни Микронезии), сопровождала Таллента во время двух его предыдущих поездок на остров, но среди коллег ее никогда не считали специалистом по языкам, и следующее поколение специалистов по У’иву оценивало ее знание языка в лучшем случае как базовое. Однако она, безусловно, не торопилась исправлять завышенную оценку ее языковых способностей.
23
Все три проводника были на У’иву охотниками на вепрей, которые в основном водятся в лесах на отрогах Та’имана; у охотников скапливается огромный опыт как в преодолении крутых подъемов, так и в передвижении по густым джунглям.
24
Позже Нортон предполагал, что Таллент мог ссылаться на ряд экспериментов, которые проводил в приюте Св. Иосифа около 1910 года френолог по имени Марроу Аптон, чьи идеи о размере и строении черепа были в большой моде на рубеже веков. Аптон особенно любил утверждать, что индейцы были биологически обречены уступить свои земли европейцам, и это, как он утверждал, можно доказать обследованием их черепов – по его наблюдениям, они якобы меньше и легче, чем у различных народов Европы.
25
Опа’иву’экэ остается единственной известной черепахой, которая может длительное время проводить как в пресной, так и в соленой воде.
26
Буквально «мое копье, мое я».
27
Идея ла – которую Нортон здесь переводит понятием «бессмысленно», хотя есть попытки объяснить ее как нечто более близкое к дзен-буддистской концепции му, «отсутствие» – это, возможно, самый главный принцип традиционной у’ивской философии (которую не следует путать с их мифологией или религией, по большей части анимистической).
В книге «Страна Ла» (Нью-Йорк, «Фаррар, Штраус и Жиру», 1987) теолог Дэвид Холт утверждает даже, что хотя буддизм никогда не достигал у’ивских берегов, ключевые ценности у’ивской системы верований «ближе к раннему буддизму, чем его современная интерпретация и повседневное азиатское бытование». Мы можем рассматривать у’ивскую философию, пишет Холт, как своего рода прабуддизм; это аргумент в пользу теории, утверждающей, что такая система верований – и, расширительно, другие мировые религии – была неизбежна, что ее каноны автоматически выстраиваются людьми.
У меня тоже есть история про ла, которую я навсегда запомнил после посещения У’иву в 1972 году. Было очень жарко, я чувствовал себя дезориентированным, меня шатало от влажности, от насекомых, от запахов. Проходя сквозь городской пейзаж, состоящий из нищих, полуразвалившихся хижин, я набрел на трех маленьких полуголых у’ивских девочек; они держались за руки и медленно ходили по кругу, напевая песню. У них были высокие, красивые голоса, какие бывают только у совсем маленьких детей – их приятно слушать, даже когда мелодия дает сбой, – и я смотрел, как они движутся по кругу и поют свою песню.
Позже, когда я рассказал это Нортону, он заметил, что точно знает, какую песню пели девочки. Считалку, предположил я. Но нет – это первые строки, которые выучивает у’ивский ребенок, это песнопение, которое звучит и во время родов, и во время похорон: «Что есть жизнь? Ла. Что есть смерть? Ла. Что есть солнце, вода, небо, лес? Ла. Что есть мой дом, моя свинья, мои бусы, мои друзья? Ла. Но что есть жизнь без моего копья? О, ла. Ла. Ла».
28
В число многих особенностей, которые отличают у’ивцев от всех остальных цивилизаций, входит их способ измерения времени. У’ивская о’ана, то есть год, делится на четыре периода по сто дней. На его начало приходится ‘уака, или влажный сезон, когда дождь идет буквально каждый день, иногда несколько часов подряд. Потом наступает лили’уака, или сезон «маленького дождя», когда воздух все еще наполнен влажностью, но дождь идет реже и погода теплее. Следующий сезон, лили’ака, или «маленькое солнце», – самый приятный: по утрам идет дождь, но он быстро кончается, и остаток дня – солнечный и довольно сухой, насколько это вообще возможно в тропическом климате. Затем наступает у’ака, самый жаркий сезон, когда дождь проливается скупо и неожиданно и даже деревья словно бы вянут под беспощадным солнцем. (Хотя Нортон этого не уточняет, его странствия по Иву’иву, вероятнее всего, начались примерно в конце лили’уаки.)
Помимо этих четырех сезонов, у’ивцы удивительным образом не отмеряли никаких других временных промежутков: у них не было представления о часах, минутах, неделях или месяцах; даже их числительные доходили только до тысячи. День начинался с восходом солнца (или, во время ‘уаки, – когда небо светлело) и заканчивался, когда солнце садилось (или наступала ночь). Дни рождения отмечались по дню сезона, когда человек рождался, так что, например, если кто-то был рожден на семнадцатый день маленького солнца, он говорил, что ему исполнился год в лили’уака охололе, то есть в «маленькое солнце семнадцать». Это значит, что из-за четырехсотдневного года шестидесятилетнему у’ивцу на самом деле 65,7 лет по западному календарю. Нортон, впрочем, использует у’ивский календарь на протяжении всего своего рассказа во избежание путаницы, и так же поступало большинство исследователей У’иву в позднейших статьях и заметках.
За последние три десятилетия многие самые удивительные и оригинальные у’ивские традиции пришли в упадок в результате возросшего интереса к стране – за что Нортон всегда винил себя – и наплыва христианских и мормонских миссионеров, чьи усилия в духе двадцатого века позволили им закрепиться там, где их предшественники девятнадцатого века не справились. Сегодня большинство у’ивцев пользуются западным календарем и прекрасно владеют (но не обязательно пользуются: у’ивцы крайне консервативны) временными категориями, по которым живет цивилизованный мир.
29
Это, разумеется, уже не так. Как и все люди на планете, у’ивцы стали выше и толще, теперь они дольше живут и поддерживают современный парадокс, согласно которому мы одновременно становимся более и менее здоровыми. Сегодня среднестатистический у’ивский мужчина живет до 63 лет (женщины, как правило, на год-два дольше), и хотя с введением водопровода и канализации дизентерия практически искоренена, основной причиной смерти как мужчин, так и женщин в настоящее время являются сердечно-сосудистые заболевания, о которых раньше на этих островах практически никто не слышал; теперь же, с учетом нового рациона, где много консервированных продуктов, и всеобщей любви к алкоголю, они стали удручающе привычными.
30
У’ивцы и иву’ивцы говорят на одном языке, но лингвисты теперь считают, что иву’ивцы говорят на «чистом у’ивском», изначальном языке, неиспорченном и нетронутом, скажем, западным влиянием. Хороший пример – это слово, обозначающее хижину: на Иву’иву хижина называлась малэ’э, но на У’иву это слово превратилось просто в малэ, видимо, после длительных и сосредоточенных усилий педанта-миссионера XIX века по имени Дэниел Мейкпис, который решил избавить язык от всяких отвлекающих гортанных смычек и, как он выражался, «избыточных слогов». Язык иву’ивцев отражал быт людей, не просто незнакомых с остальным миром, но решительно ничего не желающих знать о технологии, занятости и даже, в значительной степени, о времени. Например, не было никаких слов, обозначающих лекаря (о беременных и больных заботились деревенская повитуха и деревенский травник), свет (электрический) или любую страну, кроме их собственной. Каким бы изолированным ни казался гостям остров У’иву, его жители, по крайней мере, имели какое-то представление о людях, нововведениях и культурах за пределами их собственного мира, даже если и не проявляли почти никакого интереса к знакомству с ними.
31
Литопедион – «каменный ребенок» – это патология, при которой плод умирает в утробе и, будучи слишком большим, чтобы реабсорбироваться в организм (поскольку речь идет о смерти после первого триместра), он кальцифицируется, чтобы уберечь носителя от инфекции. При этом женщина может ничего не замечать на протяжении десятилетий, может прожить так всю жизнь, может даже родить других детей. Это явление, как отмечает Нортон, возникает крайне редко, остается чем-то вроде зловещего медицинского курьеза и в наши дни в цивилизованном мире практически не встречается.
32
Девочки, как правило, выходили замуж в четырнадцатилетнем возрасте, так что если Иваива и Ва’ана говорили правду, в 1950 году им было примерно по 133 года.
33
Но’ака – близкий родственник кокоса, круглый, похожий на тыкву плод, который растет на лозах (как арбуз) и вырастает примерно до размера мускатной дыни. На У’иву их обычно называют ука моа, то есть «плод-вепрь», из-за сходства жестких черных волосков, покрывающих поверхность плода, с щетиной вепря.
34
Деревенские жители были погружены в свою лили’ику, или «маленький сон», который традиционно начинается после полуденного приема пищи и продолжается несколько часов. Лили’ика, вероятно, возникла в силу необходимости; в жаркие месяцы работать при клонящемся к закату солнце просто слишком трудно. Кроме того, иву’ивцы бодрствовали до поздней ночи, потому что именно в это время происходила самая активная охота (из числа любимой иву’ивской дичи многие животные – ночные).
Хотя миссионеры и не смогли, как замечает Нортон, привлечь на свою сторону большое число обращенных, их немногочисленные посланники все же убедили короля, что лили’ика – довольно отсталый обычай, который помешает расцвету страны, отчего король Туимаи’элэ в 1930 году отменил лили’ику, и это достижение миссионеров оказалось одним из самых значительных. Однако на Иву’иву традиция сохранилась, потому что, как отмечает Нортон, они ничего не знали про короля, не говоря уж о королевстве.
На этих страницах Нортон почти не упоминает короля Туимаи’элэ, но по всем свидетельствам это был незаурядный человек. Туимаи’элэ был ровесник двадцатого века (то есть в момент прибытия Нортона на остров ему было пятьдесят) и правил с двенадцатилетнего возраста. Его отношения с набирающими силу западными обычаями складывались непросто. С одной стороны, он, несомненно, слышал рассказы о том, как его дед король Маку запретил ка’ака’а, заклеймив этот обычай как варварский и отсталый, вероятно, под прямым влиянием протестантских миссионеров, у которых все еще оставалось небольшое прибежище на северном берегу У’иву. Но он слышал и рассказы о своем отце, короле Ваке’элэ, который в 1875 году еще был ребенком, но уже царствовал и изгнал последних миссионеров вскоре после катастрофического цунами, которое уничтожило большую часть их зарождающегося поселения.
Царствование Туимаи’элэ было отмечено крайне заинтересованным отношением к Западу – для короля это было место запретное и потому увлекательное, – с которым можно сравнить разве что крайнюю подозрительность к нему же. Говорят (хотя письменных свидетельств об этом нет), что Ваке’элэ особенно сильно разозлился на миссионеров, когда они ему сказали, что если он хочет стать христианином, то должен отказаться от своего копья. И тогда один-единственный приказ остановил продвижение поселенцев на У’иву, которое прерывистыми перебежками продолжалось на протяжении нескольких десятилетий: Ваке’элэ их запретил, и Туимаи’элэ вырос на У’иву, где белых людей не было вообще.
Но до запрета Ваке’элэ подружился с некоторыми миссионерами, один из которых – его имени история не сохранила – подарил ему набор книжек с картинками, и король, как рассказывают, передал его своему сыну. Хотя Туимаи’элэ почти не умел читать, книги доказывали существование мира, расположенного где-то в другом месте, и именно он позже пытался организовать дипломатические миссии в различных южнотихоокеанских странах.
К сожалению, он так и не позволил себе заниматься этим с полной отдачей, и У’иву так и оставался в тени на протяжении первой половины XX века, в течение которой Запад то вспоминал про эти острова, то забывал о них, – пока Таллент и Нортон силой не вернули их в массовое сознание.
35
В предыдущих пересказах этого сюжета Нортон намекал, что это мог быть человек. Журналист «Нью-Йорк таймс» Майло Смоук обильно цитирует Нортона в своей книге «Потерянные мальчики» (Нью-Йорк, «Харпер Коллинз», 1989), и тот, по его словам, сообщил следующее: «Первое, что мы увидели, войдя в деревню людей опа’иву’экэ, – это костер, горевший днем и ночью. Над ним было растянуто существо, которое я не мог с точностью определить, – это явно было млекопитающее, потому что на его макушке все еще виднелись небольшие черные волоски, которые лопались, как разогретое стекло. Но голова его была слишком велика для собаки, а конечности слишком длинны для вепря. Глядя на него, я стал подозревать, что это может быть какой-нибудь примат, хотя до сих пор я ни разу не видел там никаких обезьян такого размера, но додумать мысль до конца и прийти к неизбежному выводу мне было слишком страшно» (298).
36
Деревенские жители тщательно следили за состоянием своих запасов; даже позже, когда внешний мир стал более напористо проникать в их общество, и времени, как и желания, охотиться у них стало меньше, они всегда заботились о том, чтобы запасов еды им хватило как минимум на целый сезон. (Никто не отвечал за выполнение этого задания; скорее, к каждой из складских хижин был приставлен человек, отвечавший за ее наполнение; эта обязанность переходила к очередному взрослому жителю деревни каждую о’ану.) Но хотя поддержание запасов было делом постоянным и круглогодичным, большая часть работы – сбор ягод и плодов, копчение, сортировка, охота на дичь и так далее – в реальности происходила в течение лили’уаки, сезона «маленького дождя». Нортон, разумеется, прибыл в конце этого периода и видел, соответственно, свежие запасы, накопленные в течение предыдущих трех месяцев.
37
В традиционной культуре Иву’иву все дети были общими. Хотя каждую ночь они спали со своими родителями в своих малэ’э, ответственность за их кормление и воспитание распределялась среди всех деревенских взрослых. Вот почему многие из ранних поколений нортоновских детей были с У’иву: там старинный метод общинного воспитания сменился более традиционным западным подходом (вероятнее всего, наследие миссионеров), а это означало, что дети без родителей или с родителями, неспособными ни за кем следить, оказывались предоставлены сами себе и остальные взрослые в этом сообществе их не усыновляли и о них не заботились. Поэтому на У’иву никто не возражал, если Нортон объявлял кого-то из этих ненужных детей своим.
38
Этот ручей, который, как позже выяснилось, протекал через весь остров, был главным источником воды для деревни и использовался как место для питья, купания и, по свидетельству Нортона, для игры. Много лет спустя было обнаружено, что остров также покрыт целой сетью подземных рек, которые деревенские жители успешно использовали в мясной хижине.
39
Большая часть деревенской жизни проходила на открытом воздухе. Во время лили’уаки жители носили самодельные зонтики из листов лава’а, которые прикрепляли к заостренным концам пальмовых стеблей; у каждого был свой зонтик, и он таскал его за собой и садился под ним, если начинался дождь. Только во время ‘уаки, сезона «большого дождя», жителям приходилось проводить большую часть времени в хижинах, и они это ненавидели, по большей части сидя у входа в свои малэ’э с мрачным видом и перекрикиваясь друг с другом на фоне раскатов грома. Нортон однажды сказал мне, что не мог понять, почему они просто не воздвигли один большой навес, под которым на время дождей могли бы собраться все.
40
Как ни удивительно, деревенские жители не только не были близко знакомы с морем, они вообще ничего о нем не знали. У Таллента есть рассказ о деревенском жителе, которого впервые отвели к морю, и он принял его за «небо без облаков». Бедняга решил, что мир перевернулся вверх ногами и он входит в царство Пу’уаки, богини дождей. См. статью Пола Таллента «Остров без воды: мифология и изоляционизм Иву’иву», Журнал микронезийской этнологии (лето 1958 г., том 30, с. 115–132).
41
Четыре ритуала, о которых Нортон вскользь упоминает, подробно описаны в главной книге Таллента об Иву’иву, «Люди среди деревьев: пропавшее колено Иву’иву» (Нью-Йорк, «Саймон и Шустер», 1959), которая стала одним из классических трудов современной антропологии. Последняя церемония – во время которой восемь деревенских жителей танцуют вокруг огня и каждый прижимает ящерицу к голове – это довольно таинственный обряд под названием туа’ина, который повезло увидеть Нортону, – он справляется только во время частичного лунного затмения. (У иву’ивцев есть сложная система отслеживания фаз луны, тоже в интереснейших подробностях описанная в «Людях» Таллента.) В у’ивской культуре ящерица – в данном случае речь идет о редком пресмыкающемся под названием э’олу’экэ – считается символом луны, а у луны насчитывается восемь фаз. Во время частичного затмения особым образом выбранная группа деревенских жителей оказывает почтение луне, призывая ее вернуться в свое нормальное состояние; ящериц прижимают к голове в знак уважения и затем жертвуют огню, чтобы дым поднялся вверх и его аромат ублажил небесных богов.
42
Эсме Дафф, «Жизнь среди бессмертных: Иву’иву и его обитатели» (Нью-Йорк, «Харпер и Роу», 1977). Это довольно сентиментальные мемуары о вылазках Дафф на остров. Как отмечает Нортон, Дафф была отличным летописцем мелочей деревенской жизни – она с невероятными подробностями описывает содержание разных складских хижин, – но в ее описании людей есть что-то приторное: дети описываются как «растолстевшие херувимы», а у женщин, по ее свидетельству, «нежные глаза». Церемония а’ина’ина не упоминается, как и упражнения по избиванию ленивца, которые подробно описывает Нортон. О Нортоне, чье участие в первой экспедиции 1950 года она немногословно признает, в книге есть только один длинный абзац, часть которого я привожу:
«Позже Перина почти в одиночку погубил этот остров… Вряд ли он когда-либо интересовался культурой Иву’иву, не говоря уж о самих островитянах – это очевидно по его намеренному пренебрежению самыми священными табу этого народа… Хотя его ошибочно считают первооткрывателем «бессмертия» – как будто бессмертие вообще можно открыть, – он всегда больше интересовался, по-моему, личным бессмертием, без всякого внимания к судьбам людей, которых ему приходилось использовать для этой цели».
К сожалению, книжку Дафф перестали допечатывать в 1980 году, всего через три года после издания.
43
Получив эту главу, я написал Нортону письмо, в котором спросил, посылал ли он статью с описанием а’ина’ины в какой-нибудь антропологический журнал. Он ответил, что посылал, и даже не раз, но а’ина’ина, видимо, до такой степени входила в противоречие с представлением об идиллическом и миролюбивом обществе, выдвинутым постталлентовским поколением специалистов по У’иву, что этот отчет так никогда и не был опубликован. Можно только надеяться, что вторая, свежая волна у’ивуистов сможет окинуть остров менее романтическим и более трезвым взглядом, чтобы пересмотреть устоявшиеся представления о тамошней культуре, особенно те, что относятся к детям и к сексуальности.
44
В отличие от У’иву, должность деревенского вождя на Иву’иву была заслуженной, а не наследуемой. Как правило, она присуждалась мужчине, который первым убивал дикого вепря до своей ма’аламакины. Завоевав эту честь, юноша, как правило, не вступал в должность до смерти или добровольного отречения действующего вождя.
45
Нортон не сообщает этого напрямую, но, помимо татуировки, еще одним указанием на недавнюю вака’ину было внезапное стремление к украшательству. Человек, достигший шестидесяти о’ан, чем-нибудь непременно украшался – ожерельем, клобуком, тканевой лентой (разумеется, позже, при смене обстоятельств, эти предметы часто терялись). У этих одежных деталей, видимо, не было никакого особого значения, скорее они просто напоминали остальным деревенским жителям о новом статусе и выдающемся достижении такого-то почтенного человека.
46
Нортон позже говорил мне, что одно из его самых больших сожалений, относящихся к тому времени, – что он не взял с собой Иваиву и Ва’ану, и я действительно всегда недоумевал, почему он этого не сделал, ведь они были близнецы и исследовать их было бы особенно интересно. Но Нортон сказал, что в то время ему казалось, будто он сможет успешно управлять только четырьмя особями, и он решил, что важнее отследить отличия между двумя кровными родственниками из разных поколений, а это означало, что близнецов придется оставить на острове.
47
Иву’ивуанский метод избавления от мертвецов и сохранения памяти о них интересен в первую очередь прагматическим подходом, особенно если учесть, с каким энтузиазмом и радостью они отмечают более повседневные жизненные события. Мертвецы в течение одного дня лежат в центре деревни с ветками лава’а на глазах. Ночью, после готовки ужина, их кладут на костер и оставляют гореть на всю ночь. (В своей книге Таллент, наблюдавший одну из таких кремаций под открытым небом, с поразительной живостью описывает, как на протяжении ночи по деревне разносятся негромкие хлопки вроде фейерверка, когда разные органы взрываются и их содержимое закипает на огне.) На следующее утро огонь гасят, останки собирают, и кто-то из родственников умерших отправляется хоронить их под деревом на окраине деревни (у каждой семьи есть определенное количество деревьев, выделенных для подобных случаев). Таллент отмечает, что дни смерти окружены не плачем и не скорбью, а «торжественным, почти величественным чувством покоя и созерцания. Ближайшие родственники покойного продолжают участвовать в повседневных ритуалах, но их молчание, их прерванный гомон в этом шумном и тесном сообществе становится отдельным ритуалом, и другие деревенские жители не отвлекают их, пока скорбящие не выказывают намерения вернуться к общинной жизни. Иногда этот молчаливый траур продолжается лишь несколько дней, иногда растягивается на месяцы. Но он отчетливо демонстрирует отдаление от места, где все происходит здесь и сейчас, возможность одиночества в окружении многолюдной толпы» (Таллент, «Люди среди деревьев», с. 178).
48
Как указывает сам Нортон, в Стэнфорде он попал в крайне необычное положение. Необычнее всего тот факт, что источник его финансирования так и не был надежно определен, даже по прошествии многих лет. В своей книге Кэтрин Хетерингтон рассматривает две возможные кандидатуры. Первая (и весьма колоритная) – это человек по имени Руфус Грипшоу, невероятно богатый и эксцентричный выпускник Стэнфорда, разбогатевший благодаря изобретению вакуумной закаточной машины, которая теперь используется на многих пищеперерабатывающих заводах; он был одержим идеей бессмертия. Хетерингтон предполагает, что Таллент рекомендовал Нортона декану медицинской школы и попросил его привлечь Грипшоу как тайного благотворителя, который профинансировал бы работу со сновидцами. Хотя это увлекательная теория – конечно, Грипшоу был в высшей степени лично заинтересован в проекте Нортона, – она исходит из предположения, что Таллент способствовал работе Нортона в гораздо большей степени, чем сам Нортон склонен признать (или поверить). Конечно, здесь мы сталкиваемся с очередной ситуацией, когда отсутствие архива документов и дневников Таллента делает воссоздание истории, не говоря о его собственных мотивах, крайне проблематичным. В последующие годы Нортон ни разу не мог с уверенностью сказать, что именно Таллент думает о нем и о его работе, и несложно представить, что сам Таллент сомневался, хочет ли он сотрудничать с Нортоном, и если да, то как именно. (С другой стороны, он, в сущности, оказался соучастником Нортона в деле переправки сновидцев в Америку.)
Помимо Грипшоу, как предполагает Хетерингтон, Нортона могла финансировать, как он сам выражается, «какая-то таинственная нелегальная касса», которая поддерживала правительственное агентство, заинтересованное в разработке новых лекарственных средств. На первый взгляд кажется, что такое предположение полностью основано на авантюрах в духе плаща и шпаги, но это не совсем так. Ведь речь о 1950 годе, всего пять лет назад окончилась мировая война, и в тот момент огромные деньги направлялись не только в младенческую еще область вирусологии, но и на самую раннюю стадию разработки биологического оружия. Абсолютно не исключено, что Стэнфорд был одним из университетов, выделивших грант на подобного рода исследования и эксперименты, а Нортон оказался его достойным получателем. (Кэтрин Хетерингтон, «Истинный маленький остров», Нью-Йорк, «Пантеон», 1992, стр. 205–218)
49
Нортон между тем был занят рядом внепрограммных дел, самым важным из которых оказалась статья, опубликованная в апреле 1951 года в «Анналах герпетологии», где он описывает опа’иву’экэ как ранее не известную морскую и пресноводную черепаху. Это краткая, но на удивление симпатичная статья, она свидетельствует, что Нортон тоже подробно фиксировал происходящее на острове; его описание деятельности и поведения опа’иву’экэ (ныне официально известной как Chelonia perinia) цитировалось в последующие десятилетия бесконечное количество раз. Помимо удовлетворения от открытия и наименования нового вида, эта статья также заложила необходимое основание для другой будущей статьи Нортона, знаменитого «Утверждения о бессмертии», опубликованного им почти два года спустя.
Статья по герпетологии привлекла большое внимание к Нортону в зоологических кругах, и на протяжении некоторого недолгого времени он даже думал сконцентрироваться на этой области; единственное, что его остановило, как он позже понял, – полное отсутствие страстного интереса к рептилиям. Впрочем, заметкой Нортона не все были довольны; в своих мемуарах Дафф утверждает, что истинными первооткрывателями опа’иву’экэ были они с Таллентом и это почетное звание принадлежит именно им. Однако, даже если бы это можно было доказать, все ученые знают, что, справедливо или нет – соображения справедливости на этом этапе вообще-то не имеют особого значения, – первооткрывателем считается тот, кто впервые описывает открытие в научной литературе, а не тот, кто просто отмечает событие в своих записках или дневниках.
Неизвестно, что думал Таллент про отчет Нортона об опа’иву’экэ. Немногие его сохранившиеся бумаги ничего подобного не упоминают, и Нортон никогда не ссылался на какие-либо их разговоры об этом.
50
Статья Таллента, разумеется, содержала ссылку на опубликованную ранее работу Нортона.
51
Нортон Перина, «Некоторые замечания о долгожительстве среди представителей народа Иву’иву», «Анналы эпидемиологии питания» (декабрь 1953), том 42, с. 324–328.
52
Революционная статья Нортона (известная как «Утверждение о бессмертии») была не единственной перчаткой, брошенной в тот год в лицо медицинским и научным стереотипам. В апреле Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали в журнале «Нейчер» свою краткую статью – «Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты», – в которой впервые была описана двойная спираль ДНК. В сочетании с открытием Нортона это привело многих историков науки к провозглашению 1953-го «годом чудес» – конечно, не без иронии, ведь эти ученые своими исследованиями пытались именно что опровергнуть чудеса.
Хотя Нортон, разумеется, придерживался высокого мнения о научных достижениях Уотсона, как человек Уотсон в целом не производил на него благоприятного впечатления – он считал, что тот слишком увлечен погоней за женщинами (о чем Уотсон подробно рассказывает в своих воспоминаниях «Гены, девушки и Гамов», Нью-Йорк, «Кнопф», 2002) и жаждой славы, которая не утихает по сей день.
53
Цель первых трех экспериментов Нортона заключалась в том, чтобы доказать, что мыши, получившие дозу опа’иву’экэ, после единственного такого кормления проживут в среднем существенно дольше своего стандартного жизненного срока, восемнадцати месяцев. Из группы А (двадцать пять пятнадцатимесячных мышей) 81 процент продолжал жить, а это означало, что медианный возраст выживания на сентябрь 1953 года, когда Нортон представил свою статью к публикации, составлял 46 месяцев; иными словами, продолжительность их жизни почти утроилась. Из группы C – сотни мышей, тоже получивших дозу опа’иву’экэ в возрасте пятнадцати месяцев, – 79 процентов были живы в возрасте 41 месяца, а это означало, что их продолжительность жизни выросла на 150 процентов. У контрольных групп из экспериментов А и C – тех мышей, которым были скормлены порции коробчатой черепахи, – продолжительность жизни составляла в среднем 17,8 месяцев, иными словами, не отличалась от обычной. В первой статье Нортона не обсуждались объекты из группы B (пятьдесят новорожденных мышат, получивших опа’иву’экэ в детском возрасте). Как ни удивительно, все они были живы в момент написания статьи, когда им был 31 месяц. Но поскольку в тот момент нельзя было доказать, что продолжительность их жизни удвоилась от поедания черепахи, Нортон решил, что публиковать эти результаты преждевременно.
Научная значимость эксперимента, проведенного Нортоном, была двоякой. Во-первых, он доказал, что жизненный срок организма может управляться внешним элементом. Во-вторых, он установил, что увеличенная продолжительность жизни – которую он назвал «представимым бессмертием» – может достигаться путем поглощения этого элемента. Всего за два года он решил загадку, мучившую все цивилизации мира от начала времен. Поэтому не приходится удивляться, что его открытия были встречены так страстно и яростно, – ведь подобную реакцию может вызвать только страх.
54
Нортон использовал для кормления мышей переднюю левую ногу опа’иву’экэ в первом и втором экспериментах и заднюю правую ногу в третьем. Он послал Серени обе оставшиеся ноги, правую переднюю и левую заднюю, чтобы Серени мог воспроизвести его данные с максимальной точностью. В итоге Серени использовал для своего опыта левую заднюю ногу.
55
Это, по сути дела, было повторением третьего эксперимента Нортона. 14 марта 1954 года Серени запустил эксперимент, в ходе которого скормил сотне пятнадцатимесячных мышей порцию опа’иву’экэ. Контрольная группа, тоже из ста мышей, получила мясо такой же коробчатой черепахи, какую использовал Нортон. За этим последовало изобилующее техническими деталями обсуждение количества черепашьего мяса, предназначенного для каждой из групп; посвященная данному вопросу переписка в полном объеме хранится среди бумаг Серени в архиве Гарвардской медицинской школы.
56
Нортон, вероятно, имеет в виду Джеймса Уотсона, которому в 1955 году было всего двадцать семь лет.
57
Чуть более высокий коэффициент выживаемости, чем у мышей Нортона, что может не иметь существенного значения по причинам, которые объяснены в следующем примечании.
58
Неизвестно, почему Серени решил представить свою статью к публикации в момент, когда мышам было только сорок месяцев, и не дождался их сорокашестимесячного возраста – столько было мышам Нортона, когда он представил свою статью.
59
Адольфус Серени, «Отклик на статью Нортона Перины «Некоторые замечания о долгожительстве среди представителей народа Иву’иву», «Ланцет», 268, выпуск 6940 (1 сентября 1956 г.), с. 421–428. Интересно, что именно Серени в результате назвал деревенских жителей Иву’иву «людьми опа’иву’экэ с Иву’иву». У островитян не было никакого самоназвания – они были просто у’иву’иву, «жители Иву’иву», – так что вымысел Серени стал в конечном итоге обиходным наименованием. Он же позже назвал изучаемое состояние «синдромом Селены». (До аспирантуры Серени изучал классическую филологию и славился среди студентов любовью к мифологическим аллюзиям и отсылкам. Говорили, что для успеха на его занятиях не мешало бы знать разницу между трахеей и таламусом, но гораздо важнее было знать разницу между Тиринфом и Тартаром.)
60
Оуэн Перина, «Бродячее небо», стихотворения (Сан-Франциско, «Сити Лайтс», 1956).
61
В 1993 году вышла нашумевшая и вызвавшая многочисленные споры книга, где утверждалось, что Таллент не только прекрасно знал о совершенной Нортоном краже, но знал также, что поедание опа’иву’экэ приводит к существенному увеличению срока жизни и к последующим когнитивным проблемам. В этой книге, которая называлась «Остров пустоты. Пол Таллент и его наследие» (Нью-Йорк, «Фабер и Фабер»), Генри Гомбрехт, историк из Университета Уильямса, утверждает, что Таллент не объявлял о своих открытиях, опасаясь, что остров подвергнется нашествию ученых и коммерсантов. Он также утверждает, что, когда Нортон пришел к тем же выводам и Таллент это понял, Таллент с Эсме намеревались убить Нортона или бросить его на Иву’иву, но в последний момент Талленту не хватило духа осуществить свой замысел. Кроме того, Гомбрехт видит в последующем исчезновении Таллента своеобразное умышленное покаяние за собственную роль в уничтожении острова, хотя с забавной научной осторожностью не позволяет себе поразмышлять, покончил ли Таллент с собой (как считают многие) или просто ускользнул в какую-то небольшую и недоступную часть мира.
При всей впечатляющей убедительности построений Гомбрехта крайне сложно понять, где он мог найти для них доказательства, учитывая, что никаких личных записок Таллента так никто и не обнаружил. Впрочем, Гомбрехт (который, по крайней мере, проявил завидное упорство, столкнувшись с негодованием, вспыхнувшим после публикации книги) утверждает, что у него есть некоторые страницы из первых иву’ивских дневников Таллента, доставшиеся ему от анонимного дарителя. Однако поскольку, во-первых, он отказался предоставить эти документы для аутентификации и даже показать их кому-либо из коллег и, во-вторых, куда логичнее представить себе страницы этого дневника в руках Эсме Дафф, которая умерла в 1982 году, когда Гомбрехт еще учился в аспирантуре и вряд ли был с ней знаком, и у самого Нортона, который, безусловно, предложил бы подобные сведения гораздо более уважаемому и надежному академическому источнику, если бы они существовали, в достоверность утверждений Гомберхта непросто поверить, не говоря уж о том, чтобы их подтвердить.
62
Это одна из неразрешимых загадок необычайно загадочной жизни Пола Таллента. На этот счет выдвигались многочисленные теории, но вот две самые живучие (это не значит, что они самые достоверные): либо Таллент оказывал королю сексуальные услуги, либо как-то сумел убедить его в своей божественной природе. Свидетельства в пользу первой теории таковы: король был известен своей, как сказали бы сейчас, бисексуальностью; у него было не только множество жен, но и множество любовников-мужчин. Все его жены довольно близко соответствовали традиционному идеалу у’ивской женской красоты – они были приземисты и широкобедры, с круглыми глазами слегка навыкате и очень темными волосами, – но в выборе спутников-мужчин король отличался гораздо большим вольнодумством, до такой степени, что активно интересовался мужчинами нестандартной наружности (что на расово однообразном У’иву представляло непростую проблему). В книге, опубликованной в 1986 году, Гарриет Максвелл, представительница второй волны антропологов, изучавших У’иву, предполагает, что во время своей первой поездки на остров, в 1947 году, Таллент на короткий, но важный период стал главным любовником короля, некой драгоценной диковиной в коллекции его величества (неизвестно, был ли Таллент практикующим гомосексуалом в повседневной жизни, но пусть бы даже и был – если эта история правдива, она многое говорит о его амбициях и целеустремленности). Их сексуальные отношения продолжались недолго – хотя Максвелл утверждает, что Талленту потом приходилось спать с королем при каждом посещении островов, – но он явно завоевал доверие короля и стал единственным представителем западного мира, которому на протяжении многих лет был дозволен неограниченный доступ к Иву’иву.
Однако позже Таллент потерял эксклюзивные права на остров – отчасти, как предполагает Максвелл, из-за того самого просчета, о котором говорит и Нортон: в конечном счете оказалось, что искусить короля все-таки можно. Не деньгами – в этом Таллент не ошибался, – но вещами. Фармацевтические компании, исследователи и разные последовавшие за ними прилипалы смогли купить доступ на остров с помощью даров: от самолетов, лодок, холодильников и других приборов (хотя электричество не было широко доступно на островах до 1972 года) до разной гораздо более дешевой ерунды. Национальный музей У’иву в Таваке полон витрин с этими сомнительными реликвиями – зажигалками, проигрывателями, сигарами, чемоданами на колесиках; многочисленные ученые дарили такой хлам в надежде, что король за это предоставит им доступ к чудесам Иву’иву. (Самый печальный и циничный подарок в королевской коллекции – книга, где на обложке изображен король и написано название «Его королевское величество Туи’маи’элэ – великий король У’иву». На самом деле это заново переплетенная биография Авраама Линкольна. Но король не умел читать по-английски, и не исключено, что он был польщен, что он удивлялся своей заморской славе. Подарок приписывается «американскому ученому из Нью-Йорка, США, 1964» – к этому времени фармацевтические компании прочесывали Иву’иву в поисках опа’иву’экэ.) («Исчезающий остров: таинственная жизнь Пола Таллента».)
Вторая теория – что Таллент убедил короля в своей божественной природе – принадлежит другому специалисту по У’иву из второго поколения, Энтони Флэглону. В статье 1990 года, опубликованной в журнале «Анналы антропологии», Флэглон пересказывает историю, якобы сообщенную ему сыном одного из королевских советников, который утверждает, что его отец видел, как Таллент «склоняется над его величеством и что-то напевает благозвучным и глубоким голосом, а его величество лежит на своих подушках с зачарованно открытым ртом». Даже если закрыть глаза на слово «благозвучный» (которое трудно себе представить в словаре неграмотного у’ивца, будь он хоть королевский советник), есть причины не доверять этому рассказу. Во-первых – как и отмечает Флэглон, – Таллент воспитывался в католическом приюте и, скорее всего, исполнял какие-то церковные песнопения, чтобы развлечь короля, а вовсе не для того, чтобы его околдовать. Во-вторых, конечно, никакого колдовства не бывает. Еще важнее тот факт, что среди ближайшего окружения короля, включая его детей и других придворных, Флэглону не удалось найти никого, кто мог бы подтвердить слова сына советника («Анналы антропологии», том 48, № 570, с. 134–143).
Интересно, что статья Флэглона вызывала новую вспышку аргументов в пользу первой теории; еще один из ученых второго поколения, профессор из Университета Макгилла по имени Хорас Грей Хосмер, предположил, что советник на самом деле видел, как Таллент соблазняет короля перед началом некой экстатической сексуальной оргии. («Новый взгляд на таинственную жизнь ученого: вдалеке от У’иву», Нью-Йорк Таймс, 27 марта 1991.)
63
Фа’а был третьим сыном в уважаемой семье охотников на диких вепрей; во всей Таваке они славились как люди благородные и смелые. Но у’ивцы настолько опасались Иву’иву, что длительное путешествие Фа’а на этот остров – да еще и в компании трех хо’оала – сильно повредило как его репутации, так и доброму имени его семьи. Когда стало известно, что он погиб на острове, его семья (за исключением, следует отметить, жены) прокляла его и позже от него отреклась. Нортон говорил мне, что среди жителей Таваки ходили слухи о предполагаемой судьбе Фа’а: что его съели иву’ивцы (популярный сюжет), что он стал одним из них или, совсем уж непростительное, что он стал тем существом, на поиски которого отправлялся, той помесью нечеловека и незверя, что все еще бродит по острову, – мо’о куа’ау.
Маловероятно, чтобы Фа’а признался Уве и Ту, что он, пусть случайно, дотронулся до опа’иву’экэ, – табу было слишком мощным. Но вовсе не исключено, что они каким-то образом сочинили легенду, которая выставляла их в роли невольных и поэтому ненаказуемых участников в замысле Фа’а. Во всяком случае, они присоединились к остальным членам клана, прекратившим общаться с женой и детьми Фа’а, хотя, по слухам, время от времени снабжали их пищей и припасами.
Судьба жены и детей Фа’а остается неизвестной. Поскольку у всех жителей У’иву общая фамилия – в данном случае все трое были Утуимаи’элэ, то есть «принадлежащие Туимаи’элэ», как родившиеся в правление этого короля, – Нортон впоследствии не смог их разыскать. Эта неуловимость навела его на мысль, что они все-таки были вынуждены в конечном счете отказаться от Фа’а как от мужа и отца, чтобы воссоединиться с обществом, или же согласиться на обращение, которое предлагали христианские миссионеры, заполонившие остров в течение следующего десятилетия.
64
Позже Нортон собрал многие из этих иллюстраций и описаний в книге под названием «Разукрашенное море: путеводитель натуралиста по Иву’иву» (Нью-Йорк, «У. У. Нортон», 1972). Он считается первооткрывателем как орхидеи (Miltonia perinia), так и насекомого, родственного жуку-рогачу (Draco perinia). Прекрасные образцы жука хранятся в Американском музее естественной истории и в Смитсоновском институте, но для орхидеи ботаники не сумели создать подходящие условия произрастания нигде, кроме верховий Амазонки в Бразилии и долины вулкана Ваиалеале на гавайском острове Кауаи.
65
Во время первого путешествия к черепашьему озеру с Муа Таллент начертил приблизительную карту дороги, но Нортон боялся попросить ее – хотя он говорил мне, что рылся однажды ночью в рюкзаке Таллента, когда тот спал, однако найти ее не сумел. К сожалению, ныне эта карта недоступна ученым, как и остальные бумаги Таллента.
66
Сотня, которую взращивали с возраста пятнадцати месяцев.
67
«Ухудшение когнитивных показателей у испытуемых, потреблявших иву’ивскую черепаху опа’иву’экэ», «Анналы эпидемиологии питания» (январь 1958), том 47, с. 259–272.
68
Как минимум на протяжении десятилетия после прибытия в США сновидцы продолжали демонстрировать (по крайней мере, в физическом плане) рефлексы и состояние здоровья, типичные для шестидесятилетних людей. Позже их уровень холестерина, сердечный ритм, объем легких и плотность костной ткани существенно ухудшились, что Нортон объяснял их нарушенным рационом и нехваткой физической активности. Однако без доступа к контрольной группе на Иву’иву сделать окончательные выводы не представляется возможным. (Дополнительные пояснения содержатся в примечании 74.)
69
Переход в Национальные институты здравоохранения подвел черту еще под одной главой. За месяц до того, как Нортон покинул Стэнфорд, оставшиеся мыши из первой группы его первоначального эксперимента умерли в возрасте 120 месяцев. Входившие в группу C умерли вскоре после его перехода в НИЗ, как и голыши из группы B – все в возрасте от 118 до 121 месяца, более чем вшестеро превышавшем их естественную продолжительность жизни.
70
Препарат сохранился в НИЗ, и его можно увидеть, получив специальное разрешение.
71
Уве в это время было около пятидесяти двух лет.
72
Нортон неопровержимо доказал, что потребление опа’иву’экэ вызывает невероятное растяжение жизненного срока. Он, однако, не знал – как и все остальные, – отчего это происходит. Нортон не был в этом виноват; сложность заключалась в том, что наука на тот момент не могла даже сформулировать задачу, не говоря уж о том, чтобы найти ее решение. Вы не должны забывать, что изучение генетики, как мы это сейчас называем, – крайне незрелая отрасль; как отмечает Нортон, к моменту, когда наука созрела достаточно, чтобы предполагать, что воздействие опа’иву’экэ продлевало жизненный срок организма за счет деактивации теломеразы, было уже слишком поздно. (Упрощенно говоря, теломераза – это естественный фермент, который расщепляет теломеры и таким образом ограничивает число делений каждой клетки; при отсутствии теломеразы клетки становятся «бессмертными», и человек перестает стареть. Предполагается, что опа’иву’экэ останавливает действие теломеразы в большинстве клеток организма, но по какой-то причине не замедляет этот процесс в определенных областях головного мозга. Вот почему при удивительной сохранности тела и определенных областей мозга – особенно тех, что регулируют слух и крупную моторику, – части мозга, отвечающие за мелкую моторику, зрение и рассудок, приходят в упадок.)
Но такова жизнь любой науки. Человек что-то открывает. Он не знает, что это, для чего оно, какие задачи оно может решить, он только знает, что обнаружил очередной фрагмент головоломки, об общем размере и узоре которой может в лучшем случае лишь догадываться. Он проводит оставшуюся жизнь в поисках следующего кусочка, но поскольку он даже не представляет, что именно ищет, это очень тяжелый труд, и добиться успеха на таком пути почти невозможно. Потом появляется представитель следующего поколения. Он видит найденный кусок головоломки и находит следующий. Теперь их два. А потом три, четыре, пять. Но ни на каком этапе, сколько бы кусков ни было найдено, никто не может утверждать, что видит окончательные очертания картины. Когда ученый думает, что он постепенно строит образ лошади, он вдруг находит рыбий плавник и понимает, что всю дорогу ошибался. Он приходит к выводу, что пытается, значит, нащупать очертания рыбы, но следующий фрагмент, который встраивается в картину, – это развернутое в полете птичье крыло. Быть ученым значит научиться жить всю жизнь с вопросами, ответы на которые так и не появятся, жить, зная, что ты пришел либо слишком рано, либо слишком поздно, мучаясь, что ты не способен угадать решение, которое, явившись, кажется таким очевидным, что остается только проклинать себя за слепоту, за неспособность увидеть то, для чего нужно было всего лишь чуть-чуть повернуть голову.
73
На протяжении многих лет Нортон обращался к представителям различных фармацевтических компаний, которые, как предполагалось, забрали мо’о куа’ау в свои лаборатории, чтобы узнать хоть что-нибудь про четырех сновидцев – Иваиву, Ва’ану, Укави и Ви’иу, – которых он оставил на острове. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что никаких вразумительных откликов он не получил, и до сих пор неизвестно, были ли оставленные им сновидцы пойманы или избежали такой судьбы, спрятавшись (что маловероятно) или умерев (на что, ради их же блага, можно только надеяться).
Также Нортон продолжал интересоваться судьбой Таллента, но Таллента никто не встречал (или не признавался в этом). Хотя джунгли на Иву’иву были вырублены на огромной площади, их все-таки оставалось более чем достаточно, чтобы позволить Талленту – теоретически – жить, оставаясь необнаруженным на фоне настойчивых изысканий.
74
Нортон ссылается на два из самых скандально известных и печальных проектов современной медицинской науки. Уиллоубрукская школа на нью-йоркском Статен-Айленде служила домом примерно для шести тысяч умственно отсталых детей. В период с 1963 по 1966 год детей заражали гепатитом А, чтобы исследователи смогли лучше изучить развитие заболевания. Естественно, когда об этом стало известно, публика страшно возмутилась, и эксперимент пришлось прекратить. Ситуация в Таскиги, более известная, чем Уиллоубрук, была результатом масштабного сорокалетнего (1932–1972) проекта, в ходе которого нищие чернокожие издольщики из Алабамы, зараженные сифилисом, подвергались исследованиям, не получая пенициллина даже спустя долгое время после того, как он вошел в стандартный протокол лечения этого заболевания.
Современные законы и правила (не говоря уж о биоэтике в ее нынешней форме), регламентирующие эксперименты над людьми, – это прямое последствие скандала с Таскиги. Хотя НИЗ создали в 1966 году Службу защиты испытуемых, организация, о которой упоминает Нортон, была основана только восемь лет спустя и тогда уже стала реальным инструментом воздействия и влияния.
В 1975 году члены комиссии посетили лабораторию Нортона, чтобы лично проверить, как там обращаются со сновидцами. Неясно, почему они решили сосредоточить свои усилия на этой крошечной популяции испытуемых, в то время как в других лабораториях люди подвергались куда более суровым испытаниям, но можно предположить, что это был результат подстрекательства со стороны кого-нибудь из многочисленных врагов Нортона. Хотя действия комиссии часто описываются как «рейд», я могу со всей ответственностью заявить, что это не так. Тем не менее после нескольких посещений члены комиссии решили, что сновидцам будет удобнее жить в менее изолированных условиях, и в октябре 1975 года их переместили в пенсионерское сообщество Торнхедж во Фредерике, штат Мэриленд.
Успехом эта операция не увенчалась, чему трудно удивляться. Хотя сновидцы к этому моменту практически никак не реагировали на свое окружение, время от времени их органы чувств все-таки выдавали реакцию тревоги и испуга из-за новой обстановки, из-за того, что они оказались разлучены (в НИЗ они все жили вместе в одном большом помещении). Эти радикальные и жестокие перемены – обстоятельств, питания, служителей – сильно их дезориентировали, и ухудшение их состояния ускорилось. В феврале 1976 года Нортон обратился к комиссии с просьбой пересмотреть решение на основании явного и очевидного страдания и стресса сновидцев.
Пока эта просьба рассматривалась, сведения о сновидцах – о которых, как это ни удивительно, до сих пор было мало кому известно – каким-то образом проникли в национальную печать. Три месяца спустя, в июне 1976 года, сновидцев попыталась выкрасть радикальная группа по защите прав коренного населения Гавайских островов под названием ГАВИКА (название составлено из первых букв английского предложения «Гавайцы мстят белым империалистам, убивают в гневе»). Группа, обещавшая «сражаться (без указания, против чего именно) во имя всех туземных микронезийских и меланезийских народов», смогла, по их собственному выражению, «освободить» Муа и Ика’ану до того, как бойцы были задержаны службой безопасности сообщества во время попытки запихнуть инвалидное кресло Вану в свой автофургон. Позже обнаружилось, что один из членов группы ГАВИКА, мужчина по имени Пайэа Макнами, тайно работал в Торнхедже санитаром на протяжении двух месяцев до операции. Макнами и три его сообщника были приговорены к тюремным срокам, а сновидцев вернули в их комнаты.
Узнав о моих долгих рабочих и личных отношениях с Нортоном, люди всегда стремятся задать множество вопросов и первым делом интересуются сновидцами: живы ли они еще, что с ними стало? Ответ на первый вопрос – да: все они до сих пор живы. Еве 299 лет (если исходить из предположения, что ей было не меньше 250, когда она покинула остров, – вовсе не исключено, что ей даже больше). Ика’ане 225. Вану 180. Муа 153. (Не забывайте, что возраст рассчитан по у’ивскому календарю. По западному календарю они еще старше.)
К сожалению, как отмечает в своем повествовании Нортон, их физическое угасание происходило резко и стремительно. Все они очень ослаблены, все утратили множество простейших двигательных навыков. Они могут ходить, но делают это неохотно. Ика’ана почти полностью ослеп. Они редко говорят и редко отвечают, если к ним обращаются. Их рефлексы тоже ухудшились, они с запозданием реагируют на любые стимулы. Почти единственное, от чего они по-прежнему получают удовольствие, – это еда: быстро поправившись на казенном рационе, в 1985 году они были переведены на новый пищевой режим, больше соответствовавший их традиционному питанию. Хотя они почти не потеряли в весе – ожидать этого и не стоило с учетом их малоподвижного образа жизни, – сновидцы, судя по всему, радовались вкусу манго и тому, что им, скорее всего, напоминало хуноно (на самом деле это были дождевые черви, закупаемые у рыболовецкой компании). Нынешнее состояние сновидцев трагично тем, что мы никогда не узнаем наверняка, в какой степени этот физиологический распад связан с преклонным возрастом, а в какой – с изменением обстановки. Тем не менее логично предположить, что среда сыграла здесь наиболее важную роль, поскольку ухудшения начались у всех одновременно, несмотря на существенную разницу в возрасте. (Здесь, к сожалению, я должен уточнить, что все упомянутые удовольствия и умения при всей их убогости не относятся к Еве; два года назад опекуны обратили внимание, что ее зрачки не сокращаются под воздействием даже самого яркого света, и последовавшие испытания показали, что ее мозг практически не функционирует. Ее дыхательная деятельность при этом характерна для женщины вчетверо моложе.)
После инцидента с группой ГАВИКА Нортон приложил массу усилий, чтобы вернуть сновидцев под свой контроль. Комиссия отклонила его просьбу, но на следующий год переместила сновидцев на охраняемый объект. Это место, которое я по очевидным причинам не могу назвать, – геронтологическое отделение хорошо известной федеральной тюрьмы особого режима, где сновидцев вновь объединили и поместили в отдельном крыле здания. Хотя этот объект находится слишком далеко от Бетесды, чтобы Нортон мог туда регулярно приезжать, поблизости от него есть известный научно-медицинский центр, и Нортону удалось дать ряд указаний тамошним геронтологам и неврологам, которые часто посещают сновидцев для исследований и наблюдения.
Второй вопрос, который мне всегда задают, – считаю ли я, что Нортон в ответе за судьбу сновидцев. На протяжении многих лет я затруднялся на него ответить. К моменту, когда я впервые увидел сновидцев, в 1972 году, они уже гораздо больше походили на себя нынешних, чем на тех существ, которых Нортон встретил в 1950 году. Так что я не могу сказать, что скорблю по людям, которыми они некогда были. С другой стороны, та разница в их виде и поведении, которая бросилась мне в глаза между их состоянием в 1975 году, когда комиссия их переместила, и 1977 годом, когда мне впервые дали разрешение их посетить, была чудовищна. При первой нашей встрече в них еще теплилось немного жизни, немного энергии: можно было погладить Еву по руке, и она в ответ тихонько урчала, и вполне можно было вообразить, что это признак удовольствия, что раскачивание головы на подголовнике инвалидной коляски – это тихое выражение радости. В 1977 году она не реагировала никак. Голова ее была откинута назад, лоб обхвачен бинтом и привязан к подушке, чтобы голова не падала вперед, и она не издавала ни звука. Ее рука была холодна, как камень. Возникало такое чувство, будто прикасаешься к чему-то из глины и волос, вовсе не к чему-то человеческому.
Это было такое жуткое и неприятное ощущение, что я могу себе представить, как тяжело и мучительно воспринимал его Нортон, знавший их гораздо более осмысленными существами, которые могли еще разговаривать, двигаться, пользоваться своими небогатыми сенсорными способностями. Но я все равно – со стыдом признаюсь в этом – в тот момент злился на него и считал, что он в ответе за случившееся. На протяжении долгих лет я полагал (молча), что он должен был придумать какой-то способ позаботиться о них, может быть, даже как-то вернуть их на Иву’иву. Но это были незрелые взгляды несведущего человека, и я постепенно от них отказался.
Факт остается фактом: Нортон делал для сновидцев все, что мог, так долго, как мог. Он делал гораздо больше, чем можно было потребовать с этической или юридической точки зрения. Он старался в максимальной степени обеспечить их благополучие и благосостояние. Под его надзором они ни разу не подвергались насилию, унижению, голоду. Он был первопроходцем опытов над людьми, причем в крайне сложных условиях. Любой, кто пытается отрицать это, не только демонстрирует полное непонимание его усилий, но и занимает глупую и оскорбительную позицию.
75
Эсме Дафф продолжала нападки на Нортона с непрекращающимся жаром и злобностью; по какой-то загадочной причине она упрямо считала, что он в ответе за исчезновение Таллента. После того как Таллент пропал, она продолжала читать лекции в Стэнфорде, но постоянной должности так и не получила. Замуж она не вышла и в 1982 году, в возрасте шестидесяти двух лет, покончила с собой.
76
Удаление мо’о куа’ау, предположительно обнаруженных на Иву’иву, силами различных фармацевтических компаний и университетских экспедиций, было таким всеохватным, что переселение кого-либо из них на У’иву представляется маловероятным. Естественно, у фармакологов и ученых имелись свои причины не допускать туда никого из сновидцев, но при этом трудно себе представить, чтобы у’ивцы, с учетом всех мифов и страхов, окружавших мо’о куа’ау, хотели с ними столкнуться. (Позже некоторые фармацевтические компании утверждали, что вывозили обнаруженных сновидцев в США для их же защиты, потому что на У’иву они наверняка подверглись бы опасности.) Из-за этого сновидцы, как и церемония вака’ины, остаются на У’иву такой же невероятной экзотикой, как и в Соединенных Штатах, а может быть, и того хлеще – особо пронзительной сказкой о призраках, которую никто никогда не опровергнет окончательно.
77
На самом деле двадцатидвухлетний молодой человек, который в тот момент был аспирантом в Сиракузском университете.
78
В лаборатории, разумеется. Среди сотрудников любой лаборатории всегда находится гурман – или, если выражаться менее снисходительно, начинающий алкоголик, – который тратит свободное время на разработку различных алкогольных напитков; они хранятся в колбах и дегустируются во время праздников в рабочей обстановке. Качество некоторых из этих напитков на удивление высокое.
79
Значительная часть работы Нортона в 1980-х годах касалась народности каре, небольшого племени (общей численностью меньше шестисот человек), жившего на севере Бразилии возле очень узкого и опасного притока Амазонки. Племя каре было обнаружено в 1978 году ботаником из Калифорнийского университета в Санта-Крузе по имени Люсьен Фини, который набрел на них в ходе поисков редкого папоротника (Microsorum coccinella), – он предполагал, что это древний родственник нынешней пальмы, который был предметом интереса собирателей и исчез почти полностью в большей части бассейна реки примерно двести лет назад. Столкнувшись с племенем, Фини увидел, что эти люди какие-то необычные, но что именно их отличает, он определить не мог. Вернувшись в Санта-Круз, он связался с Нортоном через знакомого, работавшего в университете Джонса Хопкинса, и вскоре после этого Нортон совершил первую поездку в места обитания племени (я сопровождал его в этой поездке и во всех последующих). Проверка и полевые испытания показали, что каре отличаются необычно поздним созреванием – ни у мальчиков, ни у девочек не заметны никакие вторичные половые признаки примерно до двадцати пяти лет. Наступающая вслед за этим половая зрелость – интенсивная и бурная пора, которая завершается браком. После этого их биологическая жизнь протекает обычным образом, то есть у женщин довольно короткий двадцатилетний период фертильности, после которого наступает менопауза. В результате возникает необходимость родить как можно больше детей, и многие женщины каре умирают в результате многочисленных беременностей; количество разного рода гинекологических осложнений в племени тоже очень высокое.
Изначально считалось – и в этом виделся отголосок ситуации с народом опа’иву’экэ, – что причиной отклонения был эндемический грызун (Hydrochoerus feenius); его ценят за сочное, сладковатое мясо, которое все члены племени едят с детских лет. Это, разумеется, был крайне интересный факт, особенно с учетом прежних революционных открытий Нортона, но дальнейшие исследования показали, что дело заключается не во внешнем воздействии, а в специфических особенностях физиологии каре. Тем не менее Нортон пытался привезти какое-то количество членов племени в свою лабораторию для дальнейшего изучения, однако Национальная комиссия по защите испытуемых в биомедицинских и бихевиористских исследованиях не позволила ему это сделать – Нортон вообще находился под их противоестественно неусыпным надзором с того момента, как попытался оспорить удаление сновидцев в 1976 году. Разного рода политические дрязги заставили Нортона прервать исследование каре в 1990 году, и сейчас удаленную лабораторию на земле племени содержит Гарвардский университет, который и решает, каким ученым будет предоставлен доступ. Нортон, разумеется, уязвлен таким развитием событий, и из-за этого, скорее всего, не упоминает о своей работе с каре. Интересующиеся могут найти беспристрастное описание ситуации в прекрасной книге Анны Кидд «О солнце, о камнях и обо всем, что между ними».
80
Соня Элис Перина, прибыла в 1970 году. Сейчас известна под именем СоЭП как довольно популярный нью-йоркский поэт и художник-перформансист.
81
Нортон и раньше называл детей именем Оуэн. Были, в частности, Оуэн Амброуз (прибыл около 1969 г.), Оуэн Эдмунд (прибыл около 1969 г.) и Ричард Оуэн (прибыл около 1971 г.). Примерно к 1986 году, когда Нортон усыновлял последнее, как оказалось, поколение детей, Оуэн стало фактически непременным вторым именем независимо от пола: я ясно помню, что помимо Виктора были Жизель Оуэн, Перси Оуэн (в одном из предыдущих поколений был также Персиваль Оуэн), Дрю Оуэн, Джаред Оуэн и Грейс Оуэн. Была ли такая картина следствием забывчивости или рассеянности Нортона или это был своего рода знак уважения к брату, остается неясным.
82
После этого следует фрагмент, который я как редактор решил вырезать.
83
Я понимаю, что читатель, вероятно, недоумевает, как нам удалось уйти от преследования. Все, что я могу сказать по этому поводу: при определенных обстоятельствах такие вещи можно организовать без особых сложностей.
Я бы хотел также заранее извиниться за прискорбную уклончивость этого эпилога. Мне и самому она отвратительна, но читатель, несомненно, понимает, что любой более откровенный рассказ может привести к неприятным последствиям.
