Онлайн книга
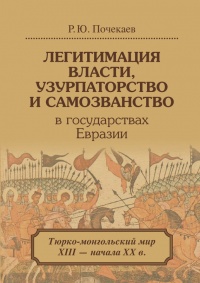
Примечания книги
1
«Золотой род» (Алтан уруг) – распространенный в чингисидской историографии эпитет династии Чингисидов.
2
Впрочем, сам Т. Барфилд весьма скептически оценивает вероятность действительной принадлежности всех правителей, считавшихся Чингисидами, к потомству Чингис-хана.
3
Среди довольно многочисленных работ, посвященных истории Чингисидов в разных государствах и регионах, можно выделить труд, охватывающий историю практически всех чингисидских династий (за исключением чисто монгольской ветви) на протяжении всего времени их правления [Султанов, 2001; 2006].
4
Соотношение этих терминов уже становилось предметом исследования (см., напр.: [Безкоровайная, 2010]).
5
Отметим, что ситуация с наследованием власти в чингисидских государствах не была уникальной: аналогичный порядок существовал и в Византийской империи, где даже после того как власть императоров-базилевсов стала передаваться в рамках одной династии, формально сохранялись избрание и официальная церемония инаугурации. Даже в случае, если на престол всходил сын предыдущего монарха, в течение длительного времени являвшийся его официальным соправителем (см.: [Карпов, 2011, с. 52–53]).
6
Сразу стоит отметить, что за всю историю чингисидских государств лишь очень немногие монархи предпринимали попытки установить четкий порядок престолонаследия, в частности, можно вспомнить примеры золотоордынского хана Узбека и бухарского хана Мухаммада Шайбани, пытавшихся ввести передачу трона от отца к сыну. Кроме того, в ряде случаев подобная передача осуществлялась de facto, без формального закрепления статуса сына как потенциального преемника отца.
7
В другой части «Сборника летописей» Рашид ад-Дин отмечает, что «юрт, ставки, [имущество], казна, [семья], эмиры, нукеры, гвардия и личное войско Чингис-хана были в его подчинении» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 107].
8
Интересно, что и сам Угедэй прекрасно осознавал прочное положение Тулуя, что нашло отражение в его словах, произнесенных на курултае, который все же состоялся в 1228 или 1229 г. Рашид ад-Дин излагает этот сюжет следующим образом: «Согласно завещанию Чингис-хана, достоинство каана утвердили за Угедей-кааном. Сначала сыновья и царевичи единодушно сказали Угедей-каану: “В силу указа Чингис-хана тебе нужно с божьей помощью душой отдаться царствованию, дабы предводители непокорных были готовы служить [тебе] жизнью и дабы дальние и ближние, тюрки и тазики [все] подчинились и покорились [твоему] приказу”. Угедей-каан сказал: “Хотя приказ Чингис-хана действует в этом смысле, но есть старшие братья и дяди, в особенности старший (sic! – P. П.)брат Тулуй-хан достойнее меня, [чтобы] быть облеченным властью и взять на себя это дело; так как по правилу и обычаю монголов младший сын бывает старшим в доме, замещает отца и ведает его юртом и домом, а Улуг-нойон – младший сын великой ставки. Он день и ночь, в урочный и неурочный час находился при отце, слышал и познал порядки и ясу. Как я воссяду на каанство при его жизни и в их присутствии?” Царевичи единогласно сказали: “Чингис-хан из всех сыновей и братьев это великое дело вверил тебе и право вершить его закрепил за тобой; как мы можем допустить изменение и переиначивание его незыблемого постановления и настоятельного приказа?” После убедительных просьб и многих увещеваний Угедей-каан счел необходимым последовать повелению отца и принять указания братьев и дядей и дал согласие» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 19]. Конечно, отказ Угедэя от предложенного ему трона в значительной степенью являлся данью традиции: еще с давних времен монгольские ханы при воцарении должны были вести себя подобным образом, предлагая «более достойные» кандидатуры – так поступал в свое время и сам Чингис-хан, когда ему впервые был предложен ханский титул [Палладий, 1866, с. 93–94; Козин, 1941, с. 137] (см. также: [Грумм-Гржимайло, 1926, с. 405–406]). Правда, интересно отметить, что при описании обстоятельств воцарения Тэмуджина – будущего Чингис-хана автор «Сокровенного сказания» не упоминает, что он отказывался от предлагаемого ему трона. Лишь впоследствии, когда избравшие его родичи изменили ему, откочевав к кераитскому Ван-хану, Тэмуджин через своих послов укорил их, напомнив, что такой отказ имел место, и у каждого из них был шанс стать ханом вместо самого Тэмуджина.
9
Обоснованные доводы в пользу фактического соправительства Угедэя как законно избранного хана и Чагатая как главы рода и правителя западного крыла империи приводит В. В. Трепавлов [1993, с. 77–78].
10
Л. Н. Гумилев считает версию о «героической смерти» Тулуя реальным фактом [Гумилев, 1995, с. 124]. Из придворных историков монгольских ханов только Алла ад-Дин Джувейни (1226–1283) отмечает, что Тулуй умер из-за пьянства: в последние годы жизни он слишком активно «предавался круговороту чаш вина с утра и до самого вечера» [Juvaini, 1997, р. 549] (см. также: [Россаби, 2009, с. 36]; ср.: [Мэн, 2008, с. 26–27]). Любопытно, что Джувейни писал свою «Историю завоевателя мира» по приказу хана Мунке – сына Тулуя, и тем не менее включил в нее такое сообщение. Вероятно, в глазах Чингисидов пьянство не было таким уж страшным пороком – и в самом деле многие из представителей «золотого рода» известны в истории своим пристрастием к алкоголю (подробнее см.: [Гатин, 2011]).
11
Зная о позиции Тулуя, нельзя не увидеть некоторого лукавства в вышеприведенном утверждении Рашид ад-Дина [1960, с. 110].
12
Согласно позднесредневековой «Истории Эрдэни-дзу», Годан страдал от какой-то кожной болезни под названием «алаг-марья», от которой он, впрочем, позднее излечился, якобы проникнувшись идеями буддизма [История, 1999, с. 149].
13
В «Алтан Тобчи» Лубсана Данзана Арик-Буга, как и его отец Тулуй, назван «владыкой», т. е. «эзеном» [Лубсан Данзан, 1973, с. 244]: этот термин и в современном монгольском языке означает «хозяин дома» [БАМРС, 2002, с. 402]. Вместе с тем уже современник Арик-Буги и Хубилая, среднеазиатский автор Джамал ал-Карши (не являвшийся сторонником ни одного из соперников) подчеркивал, что Арик-Буга, остававшийся после Мунке правителем «коренного юрта», «замещал его временно, а не сменил его» [Карши, 2005, с. 123].
14
В связи с этим представляется некорректным утверждение Л. Н. Гумилева о том, что Хубилая поддержали лишь его воины, да и то преимущественно немонгольского происхождения, тогда как «из Чингисидов… только два принца: Кадан, сын Угедея, и Тогачар, сын Тэмугэ-отчигина» [Гумилев, 1992а, с. 165].
15
Историк-нумизмат П. Н. Петров, обратив внимание, что золотоордынские монеты с именами Мунке и Арик-Буги чеканились только в Булгаре, высказал интересное и небезосновательное предположение о том, что Мунке (а вслед за ним – Арик-Буге) принадлежали какие-то владения в этом регионе Золотой Орды [Петров, 2005, с. 171]. Впрочем, на наш взгляд, тот факт, что Берке признал наследником Мунке именно Арик-Бугу, а не Хубилая, позволяет говорить о поддержке им именно этого великого хана.
16
Средневековый арабский автор ал-Муфаддал утверждает, что «Берке оказал помощь Арикбуге, и они (сообща) поразили войско Кубилая» [СМИЗО, 1884, с. 188]. Это сообщение, с полным доверием воспринятое, в частности, Е. П. Мыськовым [2003, с. 80], однако не подтверждается другими источниками. Еще P. Груссе отмечал, что помощь Арик-Буге со стороны Берке не была существенной [Grousset, 2000, р. 397].
17
Э. Шаванн и А. П. Григорьев вообще переводят титул тайцзы как «наследный принц» [Григорьев, 1978, с. 24; Chavannes, 1908, р. 369].
18
Стоит отметить, впрочем, что основной целью курултая был передел владений и сфер влияния в Средней Азии, в результате чего Чагатайский улус в очередной раз лишился значительной части территорий в пользу Золотой Орды и Хайду (см.: [Караев, 1995, с. 22–23, 25]).
19
Например, золотоордынский хан Менгу-Тимур (который и получил ханский титул в Улусе Джучи благодаря инициативе Хайду по созыву Таласского курултая 1269 г.) сначала не признал ханского титула Хайду и в первой половине 1270-х годов демонстрировал всяческую поддержку Хубилаю. Однако когда он убедился, что позиции последнего в Монголии усилились, во второй половине того же десятилетия стал поддерживать Хайду (подробнее см.: [Почекаев, 2012, с. 63–64]).
20
Часть упомянутых ярлыков (в первую очередь ярлыки Чингис-хана и Угедэя) в дальнейшем была подтверждена Мунке и его преемниками: еще юаньские императоры в ряде своих жалованных грамот отмечали, что эти акты являются подтверждением привилегий, дарованных Чингис-ханом и Угедэем (см., напр.: [Поппе, 1941, с. 63–69]).
21
Наиболее подробно эта точка зрения обоснована американским исследователем Д. Морганом [Morgan, 1986; 2005] (ср.: [Rachewiltz, 1993]).
22
Д. Морган с иронией отмечает, что нормы Ясы (как законодательства) были недоступны для тех, кто должен был бы их соблюдать, т. е. для подданных монгольских ханов [Morgan, 1986, р. 169]. Петербургский востоковед А. К. Алексеев попытался устранить это противоречие, предположив, что Яса поначалу распространялась только на самих Чингисидов, но со временем стала регулировать отношения во всей Монгольской империи и ее улусах [Алексеев, 2008, с. 39]. Однако его выводам противоречат, с одной стороны, сведения средневековых авторов о том, что Яса была публично провозглашена на курултае 1206 г. [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 135], а с другой – утверждение ал-Макризи о том, что еще и в XV в. она была недоступна (подробнее см.: [Ayalon, 1971, р. 100–105]).
23
Так, Хубилай в свое время выдавал ярлыки о признании Борака правителем Чагатайского улуса, Абагу – монгольского Ирана, а Менгу-Тимура – Улуса Джучи (Золотой Орды) [Рашид ад-Дин, 1946, с. 67; 1960, с. 98, 168].
24
В подтверждение своей позиции Т. И. Султанов приводит действительно яркий пример подобной формы наследования: в течение 1309–1334 гг. на троне Чагатайского улуса к власти поочередно приходили пять братьев – пять сыновей хана Дувы: Эсен-Буга, Кебек, Ильчигидай, Дурра-Тимур и Тармашини.
25
Своеобразным подтверждением этого вывода служит судебное решение Мухаммада Шайбани-хана, основателя Бухарского ханства, разбиравшего спор о наследстве между внуком от умершего старшего сына и вторым сыном покойного. Не найдя устраивавшего его решения в мусульманском праве (а хан склонялся к мысли о приоритете внука), он вынес решение, велев «поступать по установлению Чингис-хана» [Ибн Рузбихан, 1976, с. 59–60]. Как видим, в данном случае ни о каком лествичном праве речи не идет.
26
Впрочем, вероятно, в данном случае мог учитываться не только сам факт занятия соответствующего поста, но и проявленные за время обладания им способности и качества в сфере управления, военном деле и т. п. – что, как отмечает Т. И. Султанов, рассматривалось как одно из веских оснований для претензий на трон [Султанов, 2006, с. 90].
27
Личная консультация Дж. Брэка (J. Brack) докторанта Мичиганского университета (29.06.2014) на конференции «Mobility and Transformations: Economic and Cultural Exchange in Mongol Eurasia» (Иерусалим, 29.06–02.07.2014).
28
Хутба – упоминание имени правителя в пятничных и праздничных молитвах, считалась одним из признаков верховной власти в мусульманском мире (см., напр.: [Алексеев, 2006, с. 95]).
29
Надо отметить, что калга-султан Ислам-Гирей до воцарения своего дяди дважды официально признавался ханом под именем Ислам-Гирея I (1524, 1532), поэтому вступление Сахиб-Гирея I на трон он посчитал посягательством на его законные права и с 1535 г. вновь стал именовать себя ханом [Смирнов 2005а, с. 304–306; Халим Гирай, 2004, с. 30] (см. также: [Гайворонский, 2007, с. 187–199]).
30
Л. В. Строева полагает, что Тармаширин вступил на престол сразу после смерти своего брата Кебека в 1326 г., и уже тогда ревнители кочевых традиций выступили против него, одновременно с ним провозгласив ханом его другого брата Дурра-Тимура. Однако другие исследователи полагают, что Тармаширин пришел к власти уже после смерти упомянутого брата [Караев, 1995, с. 41; Петров, 2009, с. 304–307].
31
Расплывчатость этой формулировки позволяет исследователям строить разные версии относительно повода для убийства Тинибека. Например, А. П. Григорьев предположил, что Тинибек мог принять участие в заговоре против своего отца Узбека в 1339 г. [Григорьев, Григорьев, 2002, с. 41–42]. Основанием для такого предположения послужило письмо папы римского Бенедикта XII хану Узбеку, в котором упоминается о заговоре против хана, причем мятежники едва не ворвались в ханский дворец [Юргевич, 1863, с. 1003].
32
По сведениям армянских средневековых историков, в вину Тохудару было поставлено и незаконное пленение самого Аргуна, которого ильхан взял в плен вскоре после казни его сообщников [Патканов, 1873, с. 49–50].
33
Примечательно, что от самой казни свергнутых правителей Ногай предпочел устраниться – несомненно, чтобы впоследствии не давать повода обвинить себя в незаконной расправе с членами дома Чингис-хана (см.: [Веселовский, 1922, с. 39].
34
Характерно, что заговорщики не вернули трон отстраненному от власти наследнику – сыну хана Хайшана, а вызвали из Монголии куда менее легитимного претендента – Есун-Тэмура, по некоторым известиям вообще принадлежавшего даже к потомству не Хубилая, а его брата Арик-Буги [Лубсан Данзан, 1973, с. 250].
35
Следует также отметить, что Арпа-хан оттолкнул от себя многих еще и тем, что, осознавая проблематичность своих прав на трон, приказал казнить многих царевичей-Чингисидов, находившихся в это время в Иране – причем не только потомков Хулагу, но, например, и несколько представителей рода Угедэя [Хафиз Абру, 2011, с. 147]. По всей видимости, он опасался, что если уж ему, потомку Арик-Буге, удалось занять трон в другом чингисидском государстве, это окажется возможным и для потомства Угедэя.
36
Автор «Му’изз ал-ансаб» приводит следующую генеалогию Данишменда: «Данишмандча, сын Хундуна, сына Турджана, сына Малика, сына Угедэя» [Муизз, 2006, с. 60]. Абу-л-Гази-хан называет Данишменда сыном Хайду [Абуль-Гази, 1996, с. 89].
37
Стоит отметить, впрочем, что противостояние эмиров Мавераннахра ханам из Могулистана началось еще при жизни отца Ильяс-Ходжи – Тоглук-Тимур-хана, однако ему еще удавалось удерживать власть над обоими улусами.
38
Путаница в источниках «цветовых» обозначений правого и левого крыльев Золотой Орды вызывала (и продолжает вызывать) оживленные дискуссии исследователей (подробнее см.: [Ускенбай, 2006]).
39
Мы ограничиваемся здесь примером из истории Монгольской империи и Монгольского ханства, хотя потомки Угедэя неоднократно занимали троны и в других государствах Чингисидов (подробнее см.: [Почекаев, 2013а]).
40
В монгольских источниках фигурирует, впрочем, некий ойратский Гуйлинчи-багатур [Золотое сказание, 2005, с. 42; Лубсан Данзан, 1973, с. 259–260], однако исследователи не отождествляют его со сходным по имени ханом.
41
По мнению некоторых исследователей, Адай-хан являлся потомком Джучи-Хасара, брата Чингис-хана [Hambis, 1969, р. 187].
42
О. Палладий (Кафаров) в своем варианте перевода излагает и вопрос Угедэя и ответ Чингис-хана в более простой форме. Угедэй говорит: «…только боюсь, что мои дети и внуки будут люди без достоинств и не могут наследовать престола». На что Чингис-хан ему отвечает: «Если все дети и внуки Огэдая будут люди неспособные, то неужели из моих потомков не найдется ни одного порядочного?» [Палладий, 1866, с. 145].
43
Родственным связям киятов и тайджуитов посвящено специальное исследование [Скрынникова, 2005].
44
Согласно Марко Поло, Наян мог выставить до 400 000 воинов [Марко Поло, 1997, с. 245], что, конечно же, является преувеличением.
45
По мнению П. Джексона, Наян являлся для Хайду таким же конкурентом в борьбе за власть над Монголией, как и Хубилай, и его уничтожение войсками Юань было выгодно потомку Угедэя (см.: [History, 2009, р. 41]).
46
Версия Л. Н. Гумилева о том, что Наян выступил поборником идей христианства против «буддиста» Хубилая [Гумилев, 1992а, с. 169], представляется слишком экстравагантной, хотя и основывается на сообщении Марко Поло [1997, с. 248]. Общеизвестна нерелигиозность монгольских правителей – особенно в имперскую эпоху, когда ханы вполне рационально старались не отдавать явного предпочтения ни одной из религий, последователи которых являлись их подданными.
47
Потомок Угедэя с таким именем в источниках нами не обнаружен, возможно, речь идет о представителе «уруга Кутэна», т. е. семейства Годана, второго сына Угедэя. Этот царевич (союзник Мунке, сына Тулуя, в борьбе за ханский престол) управлял Тибетом, однако после его смерти монгольские ханы взяли этот регион под свое прямое правление, так что недовольство потомков Годана тибетской политикой Хубилая вполне могло привести их в лагерь противника основателя династии Юань.
48
Согласно Рашид ад-Дину, после казни Наяна, «уругом Тогочара» (т. е. родовыми владениями семейства Тогачара, внуком которого был Наян) стал ведать его родственник Токта-Гун [Рашид ад-Дин, 1960, с. 185].
49
Разные источники содержат различные варианты генеалогии Туга-Тимура. Согласно «Муизз ал-ансаб», его генеалогия выглядит следующим образом: «Тагай-Тимур б. Судай б. Баба-бахадур б. Абукан б. Бакса б. Джучи-Хасар» [Муизз, 2006, с. 28]. Хафиз Абру в «Дополнении к собранию историй Рашида» приводит следующую генеалогию: «Тогай-Тимур б. Судай Ке‘ун б. Баба бахадур б. Анукан б. Имкан б. Тур б. Джуджика б. Йисука из рода Откина, брата Чингис-хана» [Хафиз Абру, 2011, с. 156]. Как видим, Хафиз Абру несколько путано излагает генеалогию этого правителя, считая его потомком «Откина», т. е. Тэмугэ-отчигина, но при этом достаточно четко выводя его происхождение от «Джуджика ибн Йисука», т. е. Джучи-Хасара, сына Есугай-багатура, что, вероятно, более соответствует действительности. Безымянное «Родословие тюрков», которое некоторые исследователи считают переработкой сочинения мирзы Улугбека «История четырех улусов» (см.: [История, 2006, с. 385–286]), содержит следующую родословную, в которой некоторые имена также искажены: «Тогай Тимур, сын Сури, сына Баба Бахадура, сына Абукана, сына Алькана, сына Тури, сыга Джудже, сына Кибада, сына Юсукай Бахадура и брата Чингис-хана» [Shajrat, 1838. p. 315]. Наконец, в сочинении Шараф-хана Бидлиси генеалогия Туга-Тимура представлена так: «Туга-Тимур б. Сури б. Баба-Бахадур б. Абу-Бука б. Амакан б. Тури-бахадур б. Джучи Касар» [Шараф-хан, 1976, с. 58].
50
К этому средству впоследствии неоднократно прибегали узурпаторы трона с целью повысить свою легитимность. Например, претендент на трон Кокандского ханства Султан-Сайид за свое кратковременное правление (1862–1865) трижды был возведен на трон посредством курултая: сначала в Маргилане (1862 г.), затем в Коканде после его захвата (1863 г.) и, наконец, снова в столице, когда он вернулся туда после того, как был изгнан своим соперником Худояром (1865 г.) [Бабаджанов, 2010, с. 250–251, 254–255, 278].
51
Абу Бакр Ахари, впрочем, отмечает, что Туга-Тимур «замыслил захватить иранский престол» [Ахари, 1984, с. 114].
52
Муса-хан был схвачен и казнен Шайхом Хасаном Кучаком, правителем Азербайджана [Хафиз Абру, 2011, с. 157]. По данным Фасиха Хавафи, Муса-хан был убит в июле 1336 г. [Фасих, 1980, с. 60].
53
Различные источники датируют это событие от 1341 до 1343 г.
54
Впрочем, в 1523 г. ногайские предводители практически аналогичным образом предательски убили на пиру крымского хана Мухаммад-Гирея I и его сына астраханского хана Бахадур-Гирея, и их не остановила принадлежность этих правителей к «золотому роду» [Сыроечковский, 1940, с. 57; Трепавлов, 2001, с. 166–169] (см. также: [Гайворонский, 2007, с. 144]).
55
Высказывались предположения, что и Адай-хан был потомком Джучи-Хасара [Hambis, 1969, р. 187].
56
О его правлении упоминают среднеазиатские авторы (подробнее см.: [Бира, 1978, с. 164]). Д. З. Покотилов отождествил Ойрадтая с самим Аруктаем-тайши [Покотилов, 1893, с. 39].
57
Такую версию со ссылкой на «Мин ши» высказывают некоторые исследователи (см.: [Grousset, 2000, р. 505; Hambis, 1969, р. 121]).
58
Впрочем, некоторые современные исследователи сомневаются в достоверности этого сочинения, считая, что его составители «в искаженном виде представляли события монгольской истории» [Билигсайхан, 2008, с. 18–19].
59
Обращает на себя внимание титул Махулихая – онг, т. е. монголизированный вариант китайского титула ван (царь, царевич, правитель), которым поначалу обладали лишь потомки Хасара, но в эпоху междоусобиц получили право носить и потомки других братьев Чингис-хана [Владимирцов, 2002б, с. 437].
60
Эти опасения выражены в молитве Мандухай-хатун, обращенной к Алангоа:
«Если Ноян-Булат-Ун возьмет меня за себя, говоря с пренебрежением о малолетстве твоего потомка, и его удержи своими арканами» [Алтан-Тобчи, 1858, с. 183] (ср.: [Лубсан Данзан, 1973, с. 279; Шара Туджи, 1957, с. 148]).
61
Согласно официальной версии персидских хронистов, смещение Джахан-Тимура произошло «по причине неспособности… [к управлению]», поскольку ильхан, номинально предводительствовавший войсками, проиграл сражение с Шайхом Хасаном Кучаком, правителем Азербайджана и соперником Хасана Бузурга [Шараф-хан, 1976, с. 70]. То есть речь идет об обоснованном, в соответствии с чингисидской традицией, смещении с трона того, кто терпит поражение: следовательно, божественное покровительство ему ослабло, и его следует заменить более успешным правителем.
62
По мнению некоторых исследователей, «бахадур-хан» был официальным титулом Джалаиров.
63
Имя Амира Тимура чеканилось на монетах вместе с именами его подставных ханов – Суюргатмыша и Султан-Махмуда, что тем не менее не дает оснований утверждать о его монархических амбициях, поскольку фактическое соправительство хана-Чингисида и его бекляри-бека (амир ал-умара в иранской и среднеазиатской традиции) имело определенное распространение в тюрко-монгольских государствах (подробнее см.: [Почекаев, 2005, с. 291]).
64
Интересно отметить, что Шахрух также провозгласил себя халифом и султаном и, в отличие от Джалаиров и собственного отца, официально объявил, что отменяет в своих владениях Ясу Чингис-хана (см.: [Бартольд, 1966б, с. 48; Manz, 2007, р. 20, 28]).
65
Например, Али-пад(и)шах из племени ойрат – фактический правитель при Муса-хане, одном из последних ильханов-Хулагуидов (при том, что и сами ильханы в персидских источниках упоминались с титулом падишаха) [Хафиз Абру, 2011, с. 35, 59 и след.; Шараф-хан, 1976, с. 67–68].
66
По мнению Д. З. Покотилова, Тогон, действительно намеревавшийся стать ханом, сам отказался от этого намерения и возвел на трон Дайсунг-хана [Покотилов, 1893, с. 46].
67
Интересным представляется сообщение монгольских летописей, на которое обратил внимание еще И. Я. Златкин: ойратские предводители соглашались поддержать Агбарджин-джинонга (брата Дайсунг-хана – потомка Хубилая) в борьбе за монгольский трон при условии, что он, став ханом, пожалует титул джинонга, т. е. своего официального соправителя и наследника, именно Эсен-тайши. По-видимому, именно отказ Агбарджина повлек заговор ойратов, результатом которого стала гибель его самого и его приближенных [Златкин, 1964, с. 30–31].
68
При обсуждении этого события на конференции «Средневековые тюрко-татарские государства» (Казань, март 2012 г.) рязанский исследователь А. В. Беляков отметил, что курултай, избрав Мухаммад-Рахима ханом, фактически «сделал» его Чингисидом. Нельзя не согласиться с тем, что действительно это выглядело именно так.
69
См. подробнее гл. 4 наст. изд.
70
Чингисидское происхождение Фазыла не отмечено в бухарских источниках, однако следует иметь в виду, что Мухаммад-Рахим был женат не только на дочери Абу-л-Файз-хана Бухарского, но и Ширгази-хана Хивинского (вдове другого хивинского хана Ильбарса), а его брат, отец Нарбута-бия – на еще одной дочери Абу-л-Файза [Бейсембиев, 2004а, с. 107–108 (примеч. 4)]. Соответственно, есть основания допускать, что хотя бы в одном из родителей Фазыл-тура могла течь чингисидская кровь.
71
Сведения о статусе Абу-л-Гази-хана в правление Шах-Мурада противоречивы: согласно большинству бухарских письменных источников, Шах-Мурад уже с самого начала своего правления низложил хана и управлял сам с титулом эмира. Однако некоторые источники, а также нумизматические материалы свидетельствуют о том, что Абу-л-Гази номинально стоял во главе Бухарского ханства еще в 1790-е годы. Современные исследователи склонны полагать, что он окончательно лишился трона и даже был вынужден покинуть Бухару уже по воцарении эмира Хайдара (подробнее см.: [Бейсембиев, 2004а, с. 107 (примеч. 3)]).
72
Название «Бухарское ханство» тем не менее даже и в период эмирата «по инерции» продолжало применяться, в том числе и в российских официальных актах XIX – начала ХХ в. и в историографии (см.: [Арапов, 2002, с. 132 (примеч. 2)]).
73
Характерно, что в официальной российской имперской документации, а также в прессе последние эмиры Бухары периодически упоминались то с ханским титулом, то без него (см., напр.: [Кончина, 1911; Сеид-Абдул-Ахат-Хан, 1893; ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 31, д. 735/22]).
74
Сыновья бухарских эмиров назывались «тореджан», что подчеркивало их право на верховную власть по рождению [Лессар, 2002, с. 99].
75
По разным сведениям, это был третий или даже пятый хивинский хан с таким именем.
76
Впрочем, ханам из династии Кунгратов это не помешало в дальнейшем вновь вводить по своей воле налоги, не предусмотренные шариатом – салгут, даях, чуп-пули и др. [Лунев, 2004, с. 90, 98].
77
Интересно отметить, что в самом начале своего правления Алим-хан издавал распоряжения от имени неназванного хана и лишь некоторое время спустя сам стал использовать ханский титул [Бартольд, 2002 г, с. 463].
78
Подобное явление можно отметить, например, в политике Великих Комнинов, правителей Трапезундской империи. В конце XIII в., под давлением Палеологов, отвоевавших Константинополь у крестоносцев, они были вынуждены отказаться от «универсальности» титула императора, став титуловаться уже не «василевсами и автократорами ромеев», а «василевсами и автократорами всего Востока, Ивирии и Ператии» [Карпов, 2011, с. 58]. На наш взгляд, нечингисидские правители Средней Азии, стараясь удержать завоеванные позиции, также решили отказаться от «универсальной» власти по всей Pax Mongolica, на которую могли претендовать лишь ханы-Чингисиды и сосредоточились на отстаивании ханских титулов, но в масштабе сравнительно небольших государств в пределах бывшего Чагатайского улуса.
79
Абд ар-Раззак Самарканди упоминает Султан-Махмуда в контексте переговоров Идигу и хана Джалал ад-Дина, сына Токтамыша: хан требовал от мангытского вождя, среди прочих условий мирного договора, выдачи Султан-Махмуда. Можно предположить, что он имел опасения относительно претензий сына Идигу на ханский трон как потомка Джучидов по материнской линии и, по-видимому, намеревался устранить его.
80
Согласно некоторым исследованиям, Мансур, один из сыновей Идигу, активно действовавших в первой четверти XV в., был чингисидом по материнской линии: он родился от Суйду, дочери хана Койричака [Ускенбай, 2013, с. 237 (примеч. 10)]. Однако, насколько нам известно, ни Идигу, ни сам Мансур не пытались разыграть эту «чингисидскую карту», и Мансур, подобно отцу, добивался фактической власти, получая должность бекляри-бека от своих ставленников-Чингисидов на ханском троне (подробнее см.: [Трепавлов, 2001, с. 93–94]).
81
В. В. Трепавлов предполагает, что речь может идти о будущем казахском хане Хакк-Назаре (см.: [Трепавлов, 2001, с. 191–195]; см. также: [Исхаков, 2009б, с. 81]).
82
Именно поэтому на некоторых этапах истории Мангытского юрта – Ногайской Орды – имели место случаи, когда два или даже больше представителя династии Идигу одновременно становились бекляри-беками при разных ханах-Джучидах и, соответственно, начинали гражданскую войну в борьбе за власть в собственном юрте, имея, таким образом, равные права на власть – и в силу статуса, и в силу происхождения (см.: [Трепавлов, 2001, с. 94, 146–155]).
83
Согласно некоторым сведениям, Аппак-ходжа был женат на тетке кашгарского хана Юлбарса, однако, учитывая, что ее отцом был некий Абу-л-Хади Макрит [Чурас, 1976, с. 317 (примеч. 327)], можно сделать вывод, что супруга Аппака принадлежала к Чингисидам по женской линии, соответственно, сам ходжа не мог считаться гураганом – ханским зятем.
84
Об обосновании прав Галдана Бошугту-хана на ханский титул см. след. параграф этой главы.
85
Ч. Ч. Валиханов прямо называет Аппака «наместником» Галдана, хотя и отмечает, что ходжа был возведен на трон именно как верховный светский правитель Кашгарии [Валиханов, 1986б, с. 138].
86
Согласно Мухаммаду Садыку Кашгари, Мухаммад-Амин был младшим братом Исмаила [Kashghari, 1897, р. 37], однако по другим источникам он был сыном его брата Баба-хана (или Султан-Саид-султана), правителя Хами и Турфана [Материалы, 2000, с. 440 (примеч. 9); Международные отношения, 1989а, с. 344; Чурас, 1976, с. 323 (примеч. 363)].
87
Об этом прямо говорит Ч. Ч. Валиханов [1986б, с. 138].
88
За свое деяние Падшах-ханым получила прозвище Джаллад-ханым – «ханша-палач», или «ханша-мясник» (см.: [Kashghari, 1897, р. 39]).
89
Впрочем, на этот раз претензии на трон потомка ходжей не только не были удовлетворены, но и сам он вместе со своими родителями вскоре попал в опалу и был изгнан из Коканда.
90
Не случайно последний монарх Монголии – Богдо-хан, до своего воцарения являвшийся главой монгольской буддийской церкви – Богдо-гэгэном (Джебдзун-Дамба-хутуктой VIII), первым делом после избрания вступил в брак со своей давней сожительницей, что ранее ему как священнослужителю запрещалось, и узаконил своего сына от нее [Цендина, 2006, с. 155–156; Юзефович, 1993, с. 99–100; Batsaikhan, 2009, р. 99]. Интересен также один из его титулов, «Многими возведенный», который был призван подчеркнуть легитимность его прихода к власти – избрание на курултае в соответствии с чингисидскими обычаями.
91
Правда, Г. Ц. Цыбиков упоминает о претензиях на трон после смерти бездетного Тушету-хана целого ряда священнослужителей из числа его родственников: «Сегодня пришел ко мне один весьма словоохотливый халхасский лама-старожил… Говорил о смерти прежнего тушету-хана, затем его преемника – ламы, потом о споре за наследство, исчезновении неудачливого претендента лхасского рабчжамбы, о домогательстве Ринчэна-тусалакчи при надзирателе прикяхтинских караулах, старавшегося поставить ханом своего сына, и, наконец, о наследовании Даши-Нимы» [Цыбиков, 1991б, с. 120]. Сам Г. Ц. Цыбиков не датирует описываемые события, однако судя по упоминанию Даши-Нимы, они имели место в 1900 г. после смерти Тушету-хана Насанцогта, наследником которого и стал Даши-Нима. Впрочем, это, по-видимому, один из довольно редких случаев претензий буддийских священнослужителей на светскую власть, объяснявшийся глубоким династическим кризисом в аймаке Тушету-хана.
92
Власть Лхавсана была настолько велика, что он упразднил институт регента (светского правителя Тибета при Далай-ламе) и в 1706–1717 гг. осуществлял также и его функции [Petech, 1959, р. 378].
93
Согласно отчету иркутского воеводы Л. К. Кислянского, Галданом Бошугту-ханом было «взято бухарейских городов с 40, владеет де ими Бушухту-хан. И с тех де городов емлет Бушухту-хан их дань на себя» [Материалы, 2000, с. 339].
94
В. П. Санчиров (личная консультация во время конференции «Сазыкинские чтения», Санкт-Петербург, 16.06.2010) указал автору, что под «Ургой» в данном случае следует понимать кочевую ставку самих джунгарских правителей, а не город в Халхе, хотя представляется странным, что литейное производство могло располагаться именно в кочевой ставке.
95
Кроме того, многие из них полагались на другой фактор легитимации – поддержку иностранных сюзеренов (см. гл. 7 наст. изд.).
96
А. фон Кюгельген полагает, что эмир Хайдар был заинтересован в военной помощи Бухаре со стороны Османской империи. Однако, принимая во внимание отдаленность этих государств друг от друга, более вероятным представляется желание бухарского монарха заручиться духовной поддержкой султана, которая, возможно, пресекла бы недружественные действия соседних мусульманских государей по отношению к Бухарскому эмирату. Что касается намерения Хайдара подчиниться султану, то и в данном случае следует, вероятно, понимать его как духовное подчинение. Дело в том, что уже при вступлении на бухарский трон в 1800 г. Хайдар принял титул «амир ал-муминин», т. е. «повелитель верующих», считавшийся наивысшим в мусульманских государствах (см.: [Гафуров, 1987, с. 62; Кюгельген, 2004, с. 87]). Логично предположить, что отчаянная ситуация, в которой он оказался к 1819 г., побудила его отказаться от этого титула и признать в качестве единственного «повелителя верующих» султана-халифа.
97
Вместе с тем нельзя не отметить, что, когда китайские войска уже после смерти Якуб-бека вторглись в Кашгарию, кашгарский посол при дворе османского султана обратился к последнему с требованием вмешаться и своим авторитетом защитить интересы Кашгарии – «части Османского государства» перед китайцами [Васильев, 2009, с. 98].
98
По монетным данным он известен как Улджай-Тимур (см.: [Гаев, 2002, с. 22; Гончаров, 2005, с. 99; Настич, 1987]). У Ибн Халдуна этот хан упоминается под именем Кутлуг-Тимура [Кайдарова, Ускенбай, 2004, с. 76; Schamiloglu, 1986, р. 175].
99
Анализ башкирских преданий дает основание для утверждений о наличии у башкир собственных ханов еще в домонгольский период (см.: [Исянгулов, 2012]).
100
В башкирских родословных также упоминается, что среди башкир были свои «тюря», т. е. представители ханского рода, которых местные родоплеменные подразделения признавали своими ханами [Башкирские родословные, 2002, с. 379] (см. также: [Исянгулов, 2008, с. 32, 39–40, 44]).
101
«Альтернативная» версия происхождения «ханов» Акназара и Исмаила, предложенная Ж. М. Сабитовым [2009, с. 140–141], представляется необоснованной.
102
Различные исследователи датируют гибель Ильяс-Ходжи от 1363 до 1370 г.
103
Впрочем сами могулы также не оставались в долгу, в свою очередь, прозвав чагатайцев (население Мавераннахра) «караунас», т. е. полукровками [Султанов, 2006, с. 176–177].
104
Любопытно отметить, что приход к власти в Могулистане хана-Чингисида не повлиял на политику Амира Тимура. В 1390-е годы он, уже от имени своего нового хана Султан-Махмуда, по-прежнему организовывал походы на Могулистан, пока наконец Хызр-Ходжа, потерпевший ряд поражений, не заключил с ним мир, фактически признав вассалитет от Тимура и выдав за него замуж свою дочь (см.: [Гумилев, 1992б, с. 439–440]). Несколько иначе строил свою политику Улугбек, который в 1420-е годы старался возвести на могульский трон своего ставленника Сатук-хана – потомка Хызр-Ходжи [Караев, 1995, с. 74–77].
105
Интересно отметить, что после завоевания Кашгарии империей Цин китайские власти учли тот факт, что семейство Дуглатов в свое время правило этим регионом и продолжало пользоваться влиянием в нем: ряд Дуглатов были привлечены Цинами на службу, а один из них в первой половине XIX в. даже был наместником Кашгара и Яркенда. Несмотря на это, в 1864 г. восставшие против китайского владычества кашгарцы попытались именно этого аристократа провозгласить своим лидером [Kim, 2004, р. 37–38].
106
Безусловно, мы не собираемся утверждать, что кашгарские ханы-Чингисиды сосредоточились исключительно на оборонительных действиях и не вели завоевательных войн: Султан-Саид и в особенности его сын Абд ар-Рашид, а также потомки последнего неоднократно организовывали походы против казахов, киргизов, узбеков Бухарского ханства. Однако в отличие от своих предков, Тоглук-Тимура и Ильяс-Ходжи, они намеревались именно присоединить к своим владениям новые территории, а не перебраться в завоеванные области.
107
Обратим внимание, что даже в чингисидских государствах существовали институты «старших» и «младших» ханов, и первые выдавали вторым именно ярлыки. Кстати, таким ханом-Чингисидом, признающим авторитет другого монарха, был свергнувший Тайбугидов сибирский хан Кучум, получавший ярлыки от бухарского Абдаллаха II [Материалы, 1932, с. 296] (см. также: [Матвеев, Татауров, 2012, с. 33]).
108
По некоторым сведениям, Джахангир-мирза сумел спастись от узурпатора и присоединился к Бабуру и могулистанским ханам.
109
Данный раздел книги подготовлен при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 гг. (проект № 14–01–0010).
110
В источниках прямо сообщается, что Койричак принял из рук Амира Тимура знаки ханской власти – «царские доспехи, золотошвейную шубу и золотой ремень» [Йазди, 2008, с. 198]. В соответствии с восточным протоколом это являлось свидетельством официального признания зависимости от выдавшего эти регалии, тем более Йазди прямо сообщает, что Амир Тимур «назначил его ханом».
111
Б. З. Базарова считает, что Баньяшили (санскритское Пуньяшири, т. е. «добродетельный») было титулом Гун-Тэмур-хана, правившего в 1399–1402 гг. [Базарова, 2006, с. 229].
112
Полный титул Лигдана звучал следующим образом: «Хутукту-Суту-Чингис-Даймин-Сэчен-хаган» [Базарова, 2006, с. 229–230].
113
По крайней мере так сообщали послы ойратского Галдана Бошугту-хана на приеме у иркутского воеводы Л. К. Кислянского [Материалы, 2000, с. 339].
114
Мунис именует Тахира сыном Вали-Мухаммада [МИКХ, 1969, с. 467; Munis, Agahi, 1999, р. 66], однако вряд ли это соответствует истине, поскольку Вали-Мухаммад погиб в 1611 г. Вероятно, поэтому С. Д. Атдаев полагает, что Тахир приходился этому хану внуком [Атдаев, 2010, с. 64]. По-видимому, «сын Вали-Мухаммада» следует понимать как «потомок» – вероятно, он происходил от тех сыновей и внуков свергнутого хана, которые после его смерти осели в Иране.
115
Примечательно, что за свое выступление по воле русских властей Абд ал-Малик был лишен отцом права наследования трона и изгнан из Бухарского эмирата. Его последующие попытки завладеть троном, таким образом, официально считались узурпаторством (см.: [Арендаренко, 1974, с. 44, 61; Тухтаметов, 1966, с. 39–40]).
116
Позднесредневековые монгольские летописцы называют его «Ойрадтаем», т. е. «ханом ойратов» (см., напр.: [Лубсан Данзан, 1973, с. 259]).
117
Кроме того, от маньчжуров получили ханские титулы и некоторые владетели аймаков из рода Чингисидов, о которых речь пойдет ниже.
118
Впрочем, это не устраняло противоречий между калмыцкими правителями и местными властями, в частности, в первой половине 1740-х годов имел место длительный конфликт между астраханским генерал-губернатором В. Н. Татищевым и наместником Дондук-Даши, которого не устраивало лишь номинальное правление Калмыцким ханством, причем по некоторым сведениям, наместник даже планировал откочевку из русских владений в Среднюю Азию [Торопицын, 2012, с. 31–34].
119
В принципе, Иван IV мог иметь основания утверждать, что в его жилах течет чингисидская кровь: по материнской линии он был потомком бекляри-бека Мамая, который, как известно, был женат на дочери золотоордынского хана Бердибека. Правда, жен у Мамая было несколько, поэтому нет твердой уверенности, что Елена Глинская, мать Ивана Грозного, происходила от потомка Мамая именно от этого брака, хотя некоторые современные авторы считают именно так (см., напр.: [Абдулаева, 2009]).
120
Идея обоснования права на власть с помощью государственных и правовых символов предшествующих государей и династий к новым применялась в самые различные времена и эпохи, и уже с XVIII в. стала предметом изучения (см.: [Глушаков, 2003, с. 8–9]).
121
Соответственно, в позднесредневековой монгольской историографической традиции все императоры Мин – потомки Юн-ло именовались монгольскими (вернее, монголизированными китайскими) именами: Хонгши-хаган, Чжингтунг-хаган, Санда-хаган и т. д.
122
Интересно отметить, что именно в 1636 г. название маньчжурской династии было изменено с Поздней Цзинь на Цин [Soni, б.г., р. 41]. Исследователи связывают этот шаг с подчинением монголов, с чем можно согласиться: обретя власть над Монголией, маньчжуры уже не могли довольствоваться именем династии, некогда покоренной предками своих же новоявленных вассалов.
123
Благодарю О. Каполнаша, любезно предоставившего мне монгольский оригинал своей статьи и соответствующий фрагмент русского перевода.
124
Французская исследовательница И. Шарле обращает внимание, что император Канг-си (он же монгольский хан Энхэ-Амугулан) мог признаваться монголами своим верховным ханом, поскольку в нем текла кровь Борджигинов: его бабка была княжной из хорчинского рода, потомков Джучи-Хасара [Charleux, 2011, р. 2]. Однако эта версия не объясняет, почему его отец и дед также были признаны монголами в ханском достоинстве.
125
Например, после смерти Менгли-Гирея I в 1515 г. султан Селим I прямо-таки был вынужден назначить ханом его старшего сына и калга-султана Мухаммад-Гирея I: тот был настолько влиятелен, что мог себе позволить воцариться в Крыму и без султанского соизволения (см.: [Гайворонский, 2007, с. 120–121]).
126
Казус с борьбой за престол хана Боди-Алага и его дяди, регента Барс-Болада, нуждается в дополнительном изучении, поскольку имеет место значительная противоречивость монгольских источников, заключающаяся в определении степени «малолетства» Боди-Алаг-хана, которое и послужило предлогом для регентства Барс-Болада, а по сути – узурпации им власти. Большинство источников сходится на том, что Боди-Алаг родился в 1504 г. [Монгольские источники, 1986, с. 85], следовательно, если Даян-хан умер в 1513 г., его наследник и в самом деле был малолетним и нуждался в регентстве. Однако если принять в качестве года смерти Даян-хана 1543 г., то 39-летний Боди-Алаг никак не мог быть малолетним. Согласно «Шара Туджи», он вступил на престол в 1544 г. в возрасте сорока одного года [Шара Туджи, 1957, с. 149], т. е. если принять эти сведения, то «регентство» Барс-Болада весьма и весьма затянулось. Либо же на самом деле влиятельный царевич, являвшийся к тому же старшим родственником официального наследника Даян-хана, откровенно узурпировал власть.
127
Поскольку основатели Букеевского ханства в свое время откочевали именно из Младшего жуза, формально они в какой-то мере являлись нижестоящими по отношению к его правителям. Неудивительно, что оба претендента на ханский титул в Букеевском ханстве апеллировали к суду Ширгази-хана.
128
Примечательно, что еще в 1759 г. оренбургские власти предлагали Аблаю принять ханский титул, но требовали взамен значительное число заложников в обеспечение его верности России, на что султан пойти не захотел и от предложения отказался [Андреев, 1998, с. 36 (примеч. 30)].
129
Интересно отметить, что цинские власти отказались признавать Аблая подданным Российской империи: в декабре 1779 г. был даже издан специальный указ императора Цяньлуна, в котором он заявлял, что относительно перехода Аблая в российское подданство «нам остается делать вид, что об этом не знаем и не считаем нужным выражать свое мнение» [Цинская империя, 1989, с. 101].
130
После вынужденного отказа Губайдуллы от титула власти империи Цин попытались возвести на ханский трон еще одного своего ставленника – Алтынсары, внука Абу-л-Файз-султана, который титуловался ханом и регулярно обменивался посланиями с пекинским двором вплоть до 1855 г., когда решил уступить ханский титул своему племяннику Шотану (Шортану). Последний в течение некоторого времени вопринимался Цинами как узурпатор, однако позднее они признали и его в ханском достоинстве. Впрочем, в отличие от потомства ханов Аблая и Абу-л-Хайра, эти последние ставленники империи Цин на казахском троне большим влиянием не пользовались и проводниками китайской политики в Казахстане так и не стали. Шотан вообще проживал вне пределов Русского Казахстана: его владения располагались в подконтрольных Китаю областях Тарбагатая и Кобдо (см.: [Цинская империя, 1989, с. 30–32; Noda, Onuma, 2010, р. 75–80, 136–137]).
131
Связи Ширгази с Хивинским ханством могли объясняться его родством: он был правнуком (внуком дочери) хивинского хана Ширгази, в честь которого, возможно, получил свое имя (см.: [Ерофеева, 2003, с. 21]).
132
Арингази вызвал неудовольствие хивинских властей тем, что вел переговоры о союзе и подданстве с Бухарским эмиратом, поскольку приходился близким родственником «по женскому колену» бухарскому эмиру Хайдару [Ерофеева, 2003, с. 21–22].
133
Известны имена еще нескольких потомков хана Абу-л-Хайра, в разное время носивших ханские титулы в Младшем жузе, которые не признавались российскими властями: внуки Абу-л-Хайра – Каратай, Болекей и Тимур, правнуки Касым и Маты [Ерофеева, 2007, с. 393]. Однако, насколько известно, они не признавали суверенитет какого-то другого иностранного монарха. Аналогичным образом нет таких сведений и в отношении потомков хана Борака – его сына Букея и внука Чингиса, считавшихся ханами, но не признававшихся в этом качестве русской администрацией [Букейханов, 1901, с. 13; Ерофеева, 2001, с. 121].
134
Правда, сведений о том, что Садык получил ханский титул, не имеется.
135
По мнению Ж. М. Сабитова, он являлся сыном Абу-л-Гази из рода Джадыков – еще одного «альтернативного» хана казахского Младшего жуза, не признанного российскими властями [Сабитов, 2008, с. 113].
136
Тем не менее ближе к концу Второй мировой войны, напуганный «коммунистической угрозой», Дэ-ван организовал во Внутренней Монголии сопротивление Советской Армии и действовал в союзе с японцами, после поражения которых попал в плен к гоминдановским властям, которые посадили его под арест вплоть до падения своего режима [Дудин, 2014, с. 35].
137
См. часть IV наст. изд.
138
В участии Абу-л-Хайра в башкирских событиях начала XVIII в. нет ничего невозможного: известно, что примерно в это время он находился в Поволжье, пребывая при дворе калмыцкого хана Аюки, у которого многому научился в области военного дела, причем обстоятельства, при которых он покинул Поволжье, исследователям остались неизвестны [Ерофеева, 2007, с. 128–130]. Вполне вероятно, что именно с участием в башкирском восстании и полученной в бою с русскими войсками раной (о чем также упоминается в документах, посвященных восстанию) и было связано возвращение Абу-л-Хайра в родные казахские степи.
139
Вполне вероятно, речь шла о самозванце Султан-Мураде (о котором см. гл. 9 наст. изд.).
140
Нурали, старший сын Абу-л-Хайра, в это время находился в Оренбурге, в честь чего губернские власти даже устроили «великий трактамент» с пушечным салютом и фейерверком [Добросмыслов, 1900, с. 22].
141
Примечательно, что Абу-л-Хайр и впоследующие годы не оставлял попыток возвести Ходжа-Ахмада на башкирский трон, что не могло не беспокоить российские власти. Так, когда в 1747 г. сын казахского хана обратился к властям за разрешением жениться на знатной казанской татарке, Коллегия иностранных дел нашла повод отказать ему [Игнатьев, 2013]. Несомненно, за этим решением стояло опасение властей, что укрепление связей Абу-л-Хайра и Ходжа-Ахмада с Поволжьем путем породнения с местной знатью позволит им и далее претендовать на башкирский трон.
142
Примечательно, что потомки хана Аблая, к каковым относился и Кенесары Касымов, как правило, не получали значительных постов в системе администрации пореформенного Казахстана, лишь отдельные потомки Аблая (причем только в ближайшее время после реформы 1822 г.) сумели добиться поста старших султанов. Позднее эта ветвь казахских Чингисидов была фактически отодвинута от власти. В результате даже полностью лояльный российским властям Ч. Ч. Валиханов, избранный в ага-султаны в 1862 г., не был утвержден Омским генерал-губернатором (см.: [Стрелкова, 1983, c. 241–242]). Надо полагать, русские власти опасались вручать представителям этого властного и амбициозного рода какие-либо полномочия даже на уровне местной администрации.
143
Интересно отметить, что Боромбай и Ормон состояли в свойстве (дочь Ормона была выдана замуж за сына предводителя племени бугу) [Омурбеков, 2007, с. 229], однако это, как видим, не привело к прекращению вражды между ними.
144
Впрочем, в ряде случаев сами же представители волостного и аульного управления «возмущали народ», становились во главе отрядов восставших (см., напр.: [Восстание, 1960, с. 530]).
145
Правда, в составе войск Амангельды Иманова имелись также и «пятидесятники», тогда как в армиях средневековых тюрко-монгольских кочевников такая воинская единица отсутствовала.
146
Любопытно, что Абдугаппар был избран главным ханом в Тургайской области, тогда как остальные (Оспан Шолаков, Айжаркын Канаев и проч.) считались ниже его по статусу, будучи «волостными ханами» [Восстание, 1960, с. 739]. Таким образом, как видим, казахи успели привыкнуть к административному делению, введенному «Степными положениями» 1868 и 1891 гг. и даже в какой-то степени учитывали его при восстановлении своих традиционных властных институтов!
147
По некоторым сведения, некий Султан Мурат Акрам Тюряев также «предназначался ханом иссык-кульским над мятежниками» [Восстание, 1937, с. 44–45].
148
С. Д. Асфендиаров почему-то называет этого хана Касымом Оспановым, хотя в документах он фигурирует как Оспан Шолаков.
149
Согласно информаторам У. Уатона, секретаря английской администрации в Бомбее, одним из первых попытавшегося дать описание Восточного Туркестана, Джахангир-ходжа был схвачен сторонником черногорских ходжей – противников его рода [Анваров, 1994, с. 15], однако другими источниками и исследованиями такая версия не подтверждается.
150
Современные исследователи, впрочем, отмечают, что в государствах Средней Азии титул «тура» стал принадлежать потомкам пророка Мухаммада, вытеснив более известный их титул «сайид» (см.: [Кавахара, 2010, с. 124]). Надо полагать, использование ими «чингисидского» титула объясняется тем, что традиционно сайиды и ходжи, наравне с потомками Чингис-хана, в Средней Азии относились к «белой кости», т. е. наиболее привилегированной части аристократии (подобнее см.: [Кляшторный, Султанов, 2009, с. 329]).
151
Позднее Садык помирился с Якуб-беком, прибыл к нему в Кашгарию и даже породнился: кашгарский правитель выдал за него замуж вдову своего покойного сына [Кенесарин, 1992, с. 52]. Надо полагать, родство с султаном-Чингисидом кашгарский правитель намеревался использовать в качестве дополнительного фактора легитимации своей власти в бывших чингисидских владениях.
152
Отметим, что титул «хан» у туркмен обозначал вовсе не монарший статус, а принадлежность к привилегированному сословию – что-то вроде «бая» у казахов или киргизов (точно так же, как в сфевидском Иране ханами назывались не монархи, а родоплеменные вожди – аналоги тюркских беков).
153
Примечательно, что борьбу против советской власти Джунаид-хан начал еще в конце 1917 г., хотя Советская Россия официально заявила, что признает полную независимость Хивинского ханства. Ради борьбы с советской властью узурпатор пошел даже на сговор с представителем Временного правительства, с сентября пребывавшим в Хиве (см.: [Тухтаметов, 1969, с. 125–126]).
154
В противном случае остается согласиться с М. Россаби, считавшим, что восстание Ченгунджаба не имело конкретной цели и являлось всего-навсего очередным всплеском недовольства монголов против засилья маньчжурских властей (см.: [Kaplonski, 1993, р. 242]).
155
В трудах ученых монгольских лам Ченгунджаб и Амурсана характеризовались как изменники, мятежники против законной власти императора [Джамбадорджи, 2005, с. 142–143] (а также: [Успенский, 2011, с. 116]).
156
В пользу предположения о нелояльности Якуб-бека Султан-Сайид-хану свидетельствует тот факт, что на раннем этапе своего правления в Кашгарии эмир чеканил монеты с именем его свергнутого предшественника Малла-хана [Гаврилов, 1927, с. 10].
157
Якуб-бек при жизни официально так и не был признан в качестве хана, однако он нередко фигурирует с таким титулом в более поздней кашгарской историографии (см., напр.: [Усманов, 1947, с. 89]).
158
Согласно отчетам российских дипломатов в Центральной Азии, первые контакты Якуб-бека с англичанами были установлены гораздо раньше: еще в 1867 г. они предлагали ему помощь в борьбе с Бурхан ад-Дином – конкурентом Якуб-бека в борьбе за власть в Восточном Туркестане [Сергеев, 2012, с. 125; Kiernan, 1955, р. 320–322].
159
Отношениям государства Якуб-бека с Российской империей посвящен ряд специальных исследований [Моисеев, 2003а; 2003в].
160
Отметим, однако, что в отношениях с другими государствами Якуб-бек демонстрировал неприязнь к Кокандскому ханству и лично к хану Худояру (см., напр.: [Кулешов, 1887, с. 694]).
161
Кара-Джари был слугой-гулямом Хаджи-Хамзы – заместителя настоящего Тимур-Таша.
162
Правда, по мнению В. А. Сидоренко, «самозванство» вышеупомянутого золотоордынского претендента Кильдибека также заключалось лишь в том, что он, будучи племянником покойного хана Джанибека (сыном его брата Иринбека), выдавал себя за его сына [Сидоренко, 2000, с. 284], однако сообщения источников позволяют с уверенностью утверждать, что Кильдибека следует считать все же «лже-Кильдибеком».
163
По мнению Т. К. Бейсембиева такая незавидная участь лже-Шахруха объясняется еще и тем, что его выдавали за потомка Омар-хана, ветвь которого не пользовалась поддержкой населения в отличие от ветви его брата Алим-хана, к которой принадлежали и законный хан Худояр, и его брат Малла-хан, и большинство последующих претендентов. В подтверждение своего предположения исследователь упоминает, что в одно время с самозваным Шахрухом был умерщвлен еще один претендент на трон – Каландар-бек, несмотря на то что был подлинным сыном того же Мухаммад-Али-хана б. Омар-хана, на происхождение от которого претендовал и самозванец.
164
В шайбанидской историографии, представители которой создавали свои труды при дворе Абдаллаха II, его противник Шах-Бурхан-хан обычно предстает как малозначительный удельный правитель, к тому же обладающий массой качеств, позволяющих отнести его к «непопулярным, ставшим одиозными фигурам» [Султанов, 2006, с. 77–78]. Однако в последующей бухарской историографии он представлен как законный обладатель бухарского престола и верховной власти (см., напр.: [Мунши, 1956, с. 58–59]).
165
По выражению Хафиза Абру, Хасан Бузург «определил его на султанат» [Хафиз Абру, 2011, с. 153]. Автор «Родословия тюрков» специально подчеркивает, что «нет сомнения, что он происходил от Хулагу» [Shajrat, 1838, р. 314], что как раз заставляет заподозрить обратное.
166
Согласно Хафизу Абру, Ануширван происходил из рода кавийан [Хафиз Абру, 2011, с. 181–182].
167
Интересно отметить, что Лобсан-Шоно со временем стал одним из популярных эпических персонажей многих монгольских народов (в том числе и бурят, казалось бы, не имевших никакого отношения к событиям его жизни), однако в их эпосе имя «Шоно-батыра» никоим образом не связывают с Карасакалом (см., напр.: [Хангалов, 2004]).
168
Претензии Карасакала считаться и султаном-Чингисидом, и джунгарским тайджи приводили к историографическим казусам: например, известный исследователь истории Оренбуржья и Казахстана А. Ф. Рязанов писал, что Карасакал «выдавал себя за султана Гирея, брата Джунгарского хана» [Рязанов, 1928, с. 36]!
169
По утверждению Ч. Ч. Валиханова, Борак действовал в интересах Галдан-Цэрена, которым был подкуплен [Валиханов, 1985в, с. 9].
170
По другим сведениям на трон прочили малолетнего племянника Дукчи-и-шана, а сам он был провозглашен «помощником халифа» и должен был стать регентом (см.: [Кастельская, 1980, с. 73]).
171
Тем не менее нельзя не отметить связь Дукчи-ишана с представителями правящих кругов бывшего Кокандского ханства. В частности, он являлся мюридом Султан-хана-торе, по некоторым сведениям, активно участвовавшим в интригах против хана Худояра (см.: [Манакиб, 2004, с. 46–47]). Кроме того, согласно материалам следствия по итогам Андижанского восстания, среди его участников было немало бывших кокандских сановников, оставшихся не у дел после ликвидации ханства, да и ранее несколько авантюристов, боровшихся против российской власти в Фергане, выдавали себя за потомков ханов Коканда [Штейнберг, 1938, с. 127, 136].
172
Впрочем, проекты реформ религиозной политики России в Средней Азии, предложенные туркестанской администрацией по итогам восстания, не получили значительного развития.
173
По некоторым данным, его имя было Амур, однако подозреваем, что в этом случае Балдан сам мог принять его: ведь «Амур Санаев» очень напоминает «Амурсана», перерожденцем которого он себя объявил!
174
Известно, что еще в 1913 г. P. фон Унгерн, тогда еще только сотник, прибыл в Монголию с намерением присоединиться к Джа-ламе, чтобы вместе с ним бороться против китайцев. Однако русский консул в Кобдо настрого запретил ему это [Рощин, 1999, с. 10].
175
Кстати, начиная с 1930-х годов, появилось несколько самозванцев, выдававших себя за самого барона Унгерна, «чудесно спасшегося» от расстрела в 1921 г. и за его сыновей [Юзефович, 1999, с. 343–348]. Однако поскольку их действия не были связаны с борьбой за власть в тюрко-монгольских государствах (самозванцы пытались добиться признания в Европе и Америке), в этой книге мы не рассматриваем их случаи.
176
Отдельная история связана с головой Джа-ламы, которая была отрублена и выставлена на всеобщее обозрение, а затем, после долгих перипетий, попала в петербургскую Кунсткамеру. Этой теме посвящена отдельная работа [Ломакина, 1993].
177
Примечательно, что и в первые десятитетия ХХ в. идея восстановления Кокандского ханства оставалась актуальной, в частности такую цель ставила перед собой так называемая Кокандская автономия, существовавшая в 1917–1918 гг. [Козловский, 1928, с. 34].
178
Неслучайно А. В. Беляков охарактеризовал Чингисидов в Московском царстве как «лишних людей», так и не сумевших найти свое предназначение на новой Родине [Беляков, 2012].
179
Кадыр-Али-бий Джалаири традиционно отождествляется с государственным деятелем Сибирского ханства, фигурирующим в русских летописных источниках под именем-титулом «Карача» (см., напр.: [Трепавлов, 2012, с. 21]). Будучи приближенным хана Кучума из рода Шибанидов, являвшегося к тому же вассалом своих бухарских родичей Шайбанидов, Кадыр-Али имел возможность доступа к бухарским архивам, в которые могло попасть и хивинское историческое сочинение в результате неоднократных завоевательных походов бухарских правителей на Хиву.
180
Впрочем, чисто гипотетически можно допустить, что если предполагаемый «башкир Тук-Буга» входил в окружение хана Токты, покровительствовавшего буддизму, он вполне мог принять эту религию.
181
Справедливости ради, впрочем, стоит отметить, что подобной точки зрения придерживался и сам В. П. Юдин [1992б, с. 69], которого, как казахстанского исследователя, никак невозможно заподозрить в желании приукрасить историческое прошлое башкирского народа.
182
Эту же версию высказал и Ж. М. Сабитов (по его словам, «независимо» от нас) [Сабитов, 2011б, с. 114]. Обстоятельства убийства Узбеком сына хана Токты изложены персидскими авторами Абу Бакром Ахари [Ахари, 1984, с. 100] и Хафизом Абру [СМИЗО, 1941, с. 141]. При этом только первый из них называет имя убитого сына Токты – Илбасмыш, который, согласно сведениям арабских авторов, умер раньше отца, в 709 г. х. (1309/1310 г.) [СМИЗО, 1884, с. 123, 384, 513]. Полагаем, причина ошибки заключается в том, что Ильбасар-Ильбасмыш еще при жизни отца играл значительную роль в золотоордынской политике и был известен также в соседних государствах, тогда как о других сыновьях Токты (Тукель-Буге и Балуше) за рубежом ничего известно не было.
183
А. Гафуров, посвятивший анализу имени Шайбани-хана небольшое исследование, посчитал, что «Шайбак» – это искаженная форма тюркского имени «Шайибек», означавшего «могучий», и именно это имя якобы носил на самом деле Шайбани-хан [Гафуров, 1987, с. 57–58]. Однако исследователь не учел, что привлекшие его внимание формы «Шахибек» и «Шайбак» впервые появляются в сочинениях чагатайских и персидских авторов – Мирзы Хайдара (личного недруга Шайбани-хана), Шараф-хана Бидлиси, Малик-шаха Систани и др. Несомненно, враждебно настроенные к Мухаммаду Шайбани авторы старались исказить не только его образ, но и имя. Подобная игра слов при написании имен враждебных Ирану правителей была характерна для персоязычных авторов: например, Убайдаллах-хан, племянник Шайбани-хана, назван ими «Убайд-хан» (см., напр.: [Шараф-хан, 1976, с. 159, 290]). В результате почтенное имя «хан – раб Аллаха» превратилось в бессмысленное «раб-хан». Видимо, имя «Шах-Бахт», полученное Мухаммадом Шайбани при рождении, под язвительным пером персидских авторов подверглось подобной же обработке: вместо «царского счастья» и получился «шах бека»!
184
В. В. Трепавлов, использовавший «Чингис-наме» в переводе В. П. Юдина, равно как и в результате собственных исследований, обнаружил некоторое сходство сообщений в сочинении Утемиша-хаджи и русскоязычном памятнике второй половины XVI в. «Подлинный родослов Глинских князей». Так, в обоих источниках говорится о значительной роли представителей рода Киятов в Золотой Орде, в частности, Джир-Кутлу и его сына Тенгиз-Буги [Трепавлов, 2007б, с. 335–338]. Однако исследователь ни слова не говорит о попытке узурпации ими власти в Синей Орде.
185
Д. М. Исхаков, впрочем, не без оснований говорит о неопределенности сведений этих источников и, соответственно, подвергает сомнению результаты базирующихся на них исследований [Исхаков, 2009а, с. 98–99].
186
В сочинении дагестанского автора Джамалутдина-хаджи Карабудахкентского упоминается титул «шавхал-хан» [Джамалутдин, 2001, с. 53]. Однако его труд, написанный на рубеже 1910–1920-х годов, вряд ли можно счесть аутентичным источником.
187
В список включены имена и фамилии, упоминаемые в основном тексте и примечаниях.
Автор книги - Роман Почекаев
Почекаев Роман Юлианович, 1977 г.р., Кандидат юридических наук. Автор ряда работ по теории и истории связей с общественностью (лауреат Уральской PR-премии "Белое крыло" 2006 г.), истории государства и права средневекового Востока. Женат, воспитывает сына.
http://pr-page.narod.ru/resume.html
