Онлайн книга
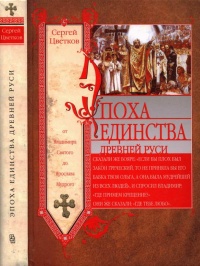
Примечания книги
1
До 973 г. Чехия входила в состав Регенсбургской архиепископии.
2
Этот документ дошел до нас в списках конца XI в. Грамота 1086 г. пражского епископа Яромира-Гебхарда гласит, что Пражская епископия «имеет на востоке следующие границы: Буг и Стырь, а также город Краков и область под названием Ваг [Западная Словакия] со всеми территориями, относящимися к поименованному городу Кракову». Прежде многие историки относились к этому сообщению скептически, усматривая в нем откровенное измышление или в лучшем случае недоразумение. Однако «в настоящее время справедливо преобладает точка зрения, что Гебхард использовал актовые материалы X в. — вероятнее всего, как он и утверждает, учредительную грамоту Пражской (видимо, и Моравской) епископии, т. е. указанные границы соответствуют церковно-политической реальности ок. 973 г.». (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX—XII вв. М., 2001. С. 395).
3
Факт отпадения радимичей и хорватов от Киева после гибели Святослава устанавливается по дальнейшим летописным сообщениям, согласно которым Владимиру в 80—90-х гг. X в. пришлось заново приводить эти племена к покорности.
4
Термин А.Е. Преснякова, понимавшего под княжим правом «совокупность обычно-правовых норм, возникавших… в сфере деятельности княжих сил, независимой от общего уклада народной жизни» (Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X—XII столетия. СПб., 1909. С. VI).
5
В том случае, если у отца не было братьев, которые имели преимущество в деле наследования княжения перед своими племянниками. Далее мы увидим, что были и другие основания к замещению княжеских столов. Но они возникали по мере разветвления великокняжеского рода и усложнения социально-политической жизни Древней Руси. В исторической действительности второй половины X в. им еще не было места.
6
Либо отводят им непомерно долгие сроки жизни. Так, поздний Пискаревский летописец под 6488/980 г. замечает: «Бысть княжения Ярополча 50 лет...», то есть относит его рождение к первой четверти X в. О Владимире Переяславско-Суздальская летопись (XIII в.) говорит, что он прожил 73 года. Отсчитывая их от года его смерти (1015), получаем 942 г., под которым в Повести временных лет значится рождение его отца. Эти записи, по-видимому, принадлежат к той летописной традиции, которая стремилась устранить очевидную нелепость хронологических сообщений Повести временных лет, касающихся жизни князя Игоря, путем более ранней датировки рождения его первенца — Святослава и соответственно Игоревых внуков. Например, В.Н. Татищев опирался на какой-то утраченный ныне источник, где рождение Святослава было отмечено 920 г. вместо 942 г. О.М. Рапов посчитал возможным принять татищевскую дату, а вместе с ней и сведения Переяславско-Суздальской летописи о 73 годах жизни Владимира на том основании, что эти биографические данные якобы согласуются с известием германского хрониста начала XI в. Титмара Мерзебургского, по которому Владимир умер «отягченный годами» (Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988. С. 157—158), или, в другом переводе, «глубоким стариком». Однако это всего лишь фигуральное выражение. В другом месте своей «Хроники» Титмар говорит иначе: «умер в преклонных летах» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 319). Очевидно, что преклонные годы и глубокая старость — не одно и то же.
7
Рождение в середине — второй половине 950-х гг. между прочим позволяет Владимиру умереть в 1015 г. в «преклонных летах», как и свидетельствует Титмар, то есть около шестидесяти лет — возрасте по тем временам весьма почтенном. Немецкий проповедник Бруно Кверфуртский, видевший Владимира за семь лет до его смерти (в 1008 г.), мимоходом отметил, что князь легко «спрыгивал с коня на землю». Подобное проворство вполне вероятно для человека пятидесяти с небольшим лет, но вряд ли оно могло отличать «отягченного годами» старика.
8
Например, по А.А. Шахматову, у Ярополка был только один воевода — Блуд, но в процессе переработки текстов статей 6483/975 и 6485/977 гг. позднейшими редакторами Повести временных лет его имя было заменено именем Свенгельда (см.: Шахматов А.Л. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 234, 242, 354—357, 364). Многие исследователи до сих пор сочувственно высказываются об этой гипотезе, считая ее «текстологически достаточно убедительной» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2000. С. 364). Однако не стоит забывать, что Шахматов вымарывал имя Свенгельда из статей под 975 и 977 гг., будучи увлечен своей концепцией причастности этого воеводы к убийству Игоря, от которой, под воздействием аргументированной критики, впоследствии отказался.
Дальше всех по пути отрицания известий летописи пошел А.Л. Никитин, который усомнился в реальности обоих сподвижников Ярополка. Историческая «избыточность» фигуры Свенгельда для хода событий 970-х гг. проявляется, по мнению исследователя, прежде всего в том, что летописная «история Свенельда оказывается слишком растянутой во времени. Даже если предположить, что в 920—925 гг., когда с наибольшей вероятностью родился Игорь, Свенельду было уже 30 лет, к моменту поражения Святослава у Доростола ему оказывается не менее 75 лет, тогда как к моменту убийства Олега «древлянского» ему идет уже девятый десяток — вещь совершенно невероятная для активно действующего воеводы X в.». (Никитин А.Л. Основания русской истории. М., 2001. С. 229).
Этот «возрастной» аргумент исследователя откровенно слаб, поскольку основан на произвольном предположении, что Свенгельду должно было исполниться тридцать лет именно к моменту рождения Игоря, хотя ничто не препятствует думать, что воевода разменял свой четвертый десяток, например, к тому времени, когда Игорь достиг совершеннолетия, то есть в конце 930-х гг. А может быть, ему тогда было лет двадцать пять… Словом, мы не знаем точно, в каком именно возрасте Свенгельд участвовал в обороне Доростола и сколько лет ему могло быть в 975 г., когда, согласно Повести временных лет, он натравливал Ярополка на Олега, а потому вывод о его старческой немощи в 70-х гг. X в. повисает в воздухе. В летописи имеется неоспоримый пример государственного и ратного долголетия: сообщение под 1106 г. о смерти маститого старца, воеводы Яна, прожившего добрых девяносто лет.
Другой довод Никитина о непричастности Свенгельда к событиям 975— 977 гг. состоит в том, что к этому времени его уже просто не было в живых. Опорой исследователю служит известие Льва Диакона о знатном русе Сфенкеле/Сфангеле, который, наряду с князем Святославом и неким Икмором, был одним из предводителей русского войска, осажденного ромеями в Доростоле (аналогичное сообщение есть и у Скилицы). Считая Сфенкела и Свенгельда одним и тем же лицом, Никитин полагает, что жизнь Свенгельда/Сфенкела оборвалась в 971 г., за два дня до заключения мира с греками, как о том пишет Лев Диакон. Дальнейшее его участие в борьбе Ярополка с Олегом уже «принадлежит литературе, а не истории» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 226, 229—230).
Очевидно, что, отождествляя Свенгельда с погибшим в бою Сфенкелом, Никитин в корне подрывает свой собственный тезис о «старческой» недееспособности Свенгельда в 970-х гг. Но это так, к слову… На наш взгляд, идентичность Сфенкела из «Истории» Льва Диакона и летописного Свенгельда не только возможна, но даже весьма вероятна. Однако из этого следует только то, что сообщение Льва Диакона о смерти Сфенкела нужно признать ошибочным, поскольку Свенгельд упоминается в договоре Святослава с греками, а официальный документ по части достоверности все же имеет преимущество перед хроникой, составленной частным лицом, которое к тому же не было непосредственным очевидцем событий.
Никитин, естественно, ставит под сомнение достоверность упоминания Свенгельда в договоре 971 г., подозревая в этом месте летописи редакторскую правку более позднего времени, которая «скорее всего может быть объяснена заменой стоявших здесь в подлиннике имен Сфенкела и Икмора…» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 230). Здесь исследователь уже совершенно перестает следить за логикой своих рассуждений: полностью доверяя известию Льва Диакона о гибели Сфенкела до подписания договора, он тем не менее допускает присутствие его имени в «подлинном» тексте этого документа. Кстати, Икмор тоже погиб до заключения мира. Вообще мысль о намеренной фальсификации летописцами официального дипломатического документа нельзя назвать удачной.
Устранение из летописного текста другого воеводы, Блуда, Никитин производит на том основании, что далее в летописи под 1018 г. упоминается княжий воевода Буды, участник сражения князя Ярослава с поляками на Буге. «Имя воеводы Ярослава — Буды/Будый, — пишет Никитин, — которое, как и производные от него, широко представлены в «Славянском именослове» М. Морошкина, позволяет предполагать, что мы имеем дело с реальной исторической фигурой. Это, в свою очередь, заставляет усомниться в реальности «воеводы Блуда» ст. 6488/980 г., созданного по образцу «Будыя» и действующего в соответствии со своим именем», ибо, развивает в другом месте свою мысль исследователь, «трудно предположить реальность человека по имени «Блуд», единственной функцией которого является передача Киева и Ярополка в руки Владимира…» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 258, 259).
Смешение в статьях под 980 и 1018 гг. имен «Буды/Будый» и «Блуд» действительно наблюдается в ряде летописных списков Повести временных лет. Вероятно, это произошло вследствие того, что некоторые редакторы и переписчики Повести посчитали обоих воевод одним и тем же лицом (и, кстати сказать, временной разрыв в 38 лет между упоминанием одного и другого не препятствует такому отождествлению). Однако поставить знак равенства между Будыем и Блудом едва ли возможно. Имена эти имеют различную семантику, что исключает предположение Никитина о «создании» летописцем мифического воеводы Блуда по образцу «реального» Будыя.
Наличие в древнерусском именослове имени Блуд, не являющегося аналогом «Будыю», засвидетельствовано, помимо летописной статьи 980 г., былиной о Хотене Блудовиче и названием Блудовой улицы в Новгороде. Судя по тому, что мать «Хотинушки Блудовича» носит в былине прозвище «вдовы честно-Блудовой жены», имя Блуд не имело скабрезного, отрицательного смыслового оттенка («развратный человек»), а состояло в связи с корнем «блуд» в значении «блуждать, странствовать». Таким образом, отпадает и подозрение Никитина о том, что воевода Блуд, предатель Ярополка, — это всего лишь литературный герой с нарицательным именем, вроде столь любимых русской литературой XVIII — начала XIX в. Правдиных, Стародумов, Скотининых, Скалозубов и тому подобных персонажей.
9
В летописной статье под 980 г. «варяги» сопутствуют Владимиру в его походе на Полоцк и Киев. Здесь видна рука позднейшего редактора, и это служит еще одним аргументом в пользу того, что в древнейшем летописном тексте «полоцкое сказание» предшествовало рассказу о захвате Владимиром Киева.
10
Вероятно, уменьшительное от Лютобор — имени, известного у чешских хорватов (ср. также со славянским племенным этнонимом «лютичи»). Норманнистам чудится в Люте искаженное скандинавское имя Ljot, Loti (см., напр.: Поппэ А. Князь Владимир как христианин // Русская литература. СПб., 1995. № 1. С. 71).
11
В более ранней статье под 6453/945 г. о мести Ольги имеется выражение «Свенельд, тоже отец мьстишин», из чего обыкновенно делался вывод, что у Свенгельда был еще один сын — Мстиша/Мстислав. Однако А.Л. Никитин, вслед за А. Поппэ, предлагает считать это место испорченным текстом: «Вероятнее всего, в указанной фразе следует читать первоначальное или «тоже отец мсти сына», или же «тоже отец мести», последствия чего мы и обнаруживаем в сюжетах о борьбе Олега и Ярополка» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 42, 229; Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. Сборник статей. М., 1974. С. 84).
12
Исторические обстоятельства, обусловившие возникновение конфликта трех Святославичей, приоткрылись сравнительно недавно благодаря исследованиям А.В. Назаренко. Для лучшего освещения этой темы, представленной в русских летописях лишь отрывочными данными полулегендарного происхождения, ученый привлек дополнительные источники, которые и помогли «обнаружить стержень, логическую ось событий, развернувшихся на Руси после гибели Святослава Игоревича» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 361—373).
13
В отечественной историографии распространена ошибочная гипотеза видного генеалога «Рюриковичей» Н.А. Баумгартена, который отождествил «короля Руси» с князем Владимиром (его статьи на эту тему были опубликованы в 1927—1930 гг. в римском журнале Orientalia Cristiana на французском языке). В подкрепление своего мнения Баумгартен сослался на известие Титмара Мерзебургского о том, что в 1018 г. в руки польского князя Болеслава I Храброго, захватившего Киев, попала мачеха князя Ярослава Владимировича. Поскольку византийская супруга Владимира, царица Анна, умерла, согласно летописи, в 1011 г., ученый посчитал, что под «мачехой» Ярослава скрывается дочь графа Куно, ставшая женой «короля Руси» Владимира между 1012 и 1015 гг. На капитальные недостатки этой теории указал А.В. Назаренко (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 310—311; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 362). По внутренней хронологии «Генеалогии Вельфов» русский брак дочери Куно должен был прийтись на вторую половину 970-х гг. Ведь Куно именуется там графом, а не герцогом (последний титул был ему пожалован только в 983 г.). Следовательно, составитель «Генеалогии Вельфов» в этой части своего труда воспользовался каким-то документом, написанным до 983 г. Нельзя не учитывать и того, что в 1012 г. этой дочери Куно должно было исполниться не меньше 35—40 лет — возраст, совсем не подходящий для династического брака, тем более с Владимиром — государем, известным в качестве большого знатока женских прелестей.
14
В «Вайнгартенской истории Вельфов» (60-е гг. XI в.) дочь императора, вышедшая замуж за Куно, носит имя Рихлинт. Однако женское потомство Отгона I хорошо известно, и дочери с таким именем среди него нет. Тем не менее Куно/Конрад фон Энинген, по-видимому, в самом деле состоял в довольно близком родстве с императорской семьей, так как его сын, швабский герцог Херманн II, серьезно претендовал на королевский трон Саксонии, опустевший в 1002 г. после смерти бездетного Отгона III, внука Отгона I и последнего представителя Саксонской династии (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 309; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 371—372).
15
Жеротины, напротив, желали происходить от знаменитых государей. Известно их притязание на родство даже с византийскими императорами, хотя и все равно через русское посредство — по Изяславу, князю полоцкому, ошибочно считавшемуся в то время сыном князя Владимира от византийской царевны Анны (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на между народных путях. С. 369; Флоровский А.В. Русское летописание. С. 315).
16
А.В. Назаренко обращает внимание на дальнейшую судьбу Святослава, отраженную в «Сказании и страсти и похвале святую мученику Бориса и Глеба»: «Его бегство в 1015 г. от Святополка почему-то именно к «горе Угорьстеи», т. е. к Карпатам, как будто косвенно подтверждает летописную версию» его происхождения (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 366). Но, согласно известию «Повести об убиении святых новоявленных мучеников Бориса и Глеба», повторенному Ипатьевской летописью, Святослав Владимирович пытался укрыться совсем не в Чехии: «бежащу ему в угры», то есть к венграм.
17
Курьезным выглядит мнение А.В. Карташева, что «красивая гречанка- христианка» была приведена Ярополку в качестве «достойной невесты» (Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 129). Поиск супруги среди монашек — весьма одиозный поступок для человека, который «слагался в князя-христианина» и «любяше христианы».
18
Светские события начинают отмечаться в летописи полными датами лишь с 1061 г.: «В лето 6569. Приидоша половци первое на Русскую землю воевати, Всеволод же изыде противу им, месяца февраля в 2 день…»
19
В средневековой западноевропейской агиографии есть произведение, иногда используемое для решения вопроса о крещении Ярополка и которое, однако, я не нахожу возможным привлечь в качестве источника в рамках данной темы. Тем не менее обойти его молчанием нельзя. Речь идет о Житии блаженного Ромуальда, написанном около 1030 г. итальянским кардиналом Петром Дамиани, епископом Остии (умер в 1072 г.). Рассказывая об учениках святого мужа, автор входит во многие подробности жизни одного из них, наиболее любимого Ромуальдом, — святого Бруно (в монашестве Бонифация) Кверфуртского — и, в частности, приводит довольно пространный эпизод его миссионерской проповеди на Руси.
Побывав в стране какого-то языческого народа (по известиям других писателей, это была Венгрия), Бруно отправился оттуда на Русь, где «принялся настойчиво и неотступно проповедовать». Но «король Руси» (rex Rus-sorum) оставался глух к его словам и потребовал от пришельца чуда, которое, разумеется, тотчас и было ему предъявлено — на глазах у всего народа Бруно, в роскошном епископском облачении, со святой водой и возженной кадильницей в руках, шагнул в разложенный для него огромный костер «и вышел совершенно невредимым, так что не видно было даже ни единого обгоревшего волоса». После этого все присутствующие немедленно крестились, а король даже выразил желание «оставить королевство сыну, дабы не разлучаться с Бонифацием до конца своих дней».
Однако дальнейшим успехам Бруно в деле просвещения жителей Руси помешали неожиданно возникшие затруднения. У «короля Руси» было два брата. И вот, «брат короля, живший совместно с ним, не захотел уверовать и потому в отсутствие Бонифация был убит королем. Другой же брат, который жил уже отдельно от короля, как только к нему прибыл блаженный муж, не пожелал слушать его слов, но, пылая на него гневом за обращение брата, немедленно схватил его. Затем из опасения, как бы король не вырвал Бонифация из его рук, если он оставит его в живых, он приказал обезглавить [святого] на своих глазах и в присутствии немалой толпы». Но тут всех свидетелей казни хватил столбняк, а брат короля к тому же и ослеп. И только приняв крещение по совету «короля Руси», прибывшего отомстить за Бруно, участники расправы над святым мучеником получили прощение свыше, а вместе с ним и исцеление.
Нетрудно заметить, что политическая обстановка в Русской земле, которую застает Бруно, сродни действительному положению дел в 70-х гг. XI в.: имеется «король Руси» (Ярополк, сидящий на великокняжеском столе в Киеве) и два его брата — один, живущий «совместно с ним» (Олег, в Древлянской земле), другой — «отдельно от короля» (Владимир, в Новгороде). Дальнейшие события, за исключением финала, также развиваются по летописной канве: «король Руси» убивает «ближнего» брата, а затем вступает в борьбу с «дальним». Вместе с тем участие Бруно в обращении трех Святославичей в 70-х гг. X в. является обескураживающим анахронизмом, ибо этот достаточно хорошо известный и весьма деятельный миссионер родился около 976 г., а на Руси побывал только в 1008 г., при князе Владимире, — факт, засвидетельствованный в личном письме Бруно к императору Генриху II. Удовлетворительно объяснить причины, по которым Петр Дамиани усвоил ему роль крестителя Ярополка, никак не удавалось.
Тем не менее с тех пор, как Житие святого Ромуальда вошло в научный обиход, время от времени предпринимались попытки приписать принятие Ярополком христианства католическому влиянию. Так, В.А. Пархоменко полагал, что Ярополк примерно за год до смерти крестился по обряду Римской церкви. Спасти же историческую достоверность известия Петра Дамиани о крещении «короля Руси» Бруно-Бонифацием исследователь пытался при помощи предположения, что в данном случае мы имеем дело с искаженным воспоминанием о деятельности на Руси в 70-х гг. X в. безвестных католических миссионеров (см.: Пархоменко В.А. Начало христианства на Руси: Очерки из истории Руси IX—X вв. Полтава, 1913. С. 162—164). Этот довод почти слово в слово был повторен А.В. Назаренко, который, однако, постарался конкретизировать личности этих безымянных немецких монахов: «Думаем, что эти миссионеры входили в посольство Отгона II к Ярополку, которое вело переговоры о военном союзе и возможном браке юного киевского князя с дочерью графа Куно «из Энингена», родственницей императора. Ярополк согласился и на союз, и на брак, приняв как следствие крещение от миссионеров, сопровождавших посольство» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 379).
На это можно возразить, что ни о каких попытках обращения русских князей в христианство западными миссионерами после миссии Адальберта к княгине Ольге в 961—962 гг. источники не знают (правда, Никоновская летопись под 979/980 г. сообщает: «Того же лета приидоша послы к Ярополку из Рима от папы», однако цели папского посольства остаются неясны). И затем, гипотеза, будто в образе Бруно-Бонифация как бы персонифицировались личности неких оставшихся неизвестными предшественников, противоречит выводам историко-филологической критики, которая утверждает совершенно обратное, а именно, что для Петра Дамиани и других современных ему агиографов характерна тенденция смешивать Бруно-Бонифация Кверфуртского с известными церковными деятелями того времени — Адальбертом-Войтехом Пражским, Бруно Аугсбургским, Бруно Ферденским. Этой путанице в немалой степени способствовало то обстоятельство, что в средневековой литературе Бруно Кверфуртский фигурировал под двумя именами: в немецкой традиции — под именем Бруно, в итальянской — под именем Бонифаций, которое он принял уже в Италии при пострижении в римском монастыре Святых Бонифация и Алексия. «Тождественность обоих святых была установлена только наукой нового времени» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 347—350).
Вот здесь-то, как мне кажется, и нужно искать ключ к разгадке анахронизмов «русского фрагмента» в Житии блаженного Ромуальда.
Прежде всего заметим, что сообщение Петра Дамиани о крещении Руси Бруно-Бонифацием вряд ли является преднамеренным вымыслом. Скорее речь может идти о неверном перетолковании какого-то реального факта, успевшего в течение первой трети XI в. закрепиться в житийной традиции, связанной с личностью Бруно Кверфуртского. Выявить источник ошибки помогает Хроника ангулемского монаха Адемара Шабаннского (ум. до 1034 г.), который тоже касается миссионерской деятельности Бруно и между прочим пишет следующее: «Святой же Бруно обратил к вере область Венгрию [и] другую, которая зовется Русью. Он крестил короля Венгрии по имени Геза, которого в крещении, переменив имя, назвал Стефаном… Упомянутый король велел святому Бруно окрестить также и своего сына [Вайка], дав ему имя, подобно своему — Стефан».
Здесь пребывание Бруно на Руси совершенно сознательно отнесено к времени до официального крещения Руси князем Владимиром, так как дальше у Адемара сказано: «Спустя некоторое время на Русь прибыл один греческий епископ и обратил ту половину страны, которая еще оставалась предана идолам, и заставил их принять греческий обычай ращения бороды и прочее». Кроме того, Адемар делает Бруно современником аугсбургского епископа Ульриха, умершего в 973 г., и приписывает ему обращение венгерского короля Гезы и его сына Вайка (будущего Иштвана/Стефана I), тогда как в действительности Бруно Кверфуртский виделся только с последним, во время посещения Венгрии в 1007 г., то есть спустя много лет после крещения Гезы и Вайка, состоявшегося где-то во второй половине 970-х гг.
Анахронизмы Адемара, как видим, вполне аналогичны хронологической неувязке у Петра Дамиани, который также перенес миссионерскую деятельность Бруно Кверфуртского в 70-х гг. X в. Но текст ангулемского хрониста позволяет вместе с тем обнаружить корень недоразумения. Совершенно очевидно, что Адемар просто перепутал Бруно Кверфуртского с другим Бруно, возглавлявшим в 962—976 гг. Ферденскую кафедру. Между 973 и 976 гг. Бруно Ферденский вместе с Пильгримом, епископом Пассаусским, посетили Венгрию в составе имперского посольства, которое, по всей видимости, и имело своим следствием обращение Гезы и его сына, поскольку святой Стефан, чьим именем были наречены венгерские государи, был патрональным святым Пассаусской кафедры (по другому преданию, Геза решил креститься, поддавшись уговорам своей жены Адельгейды, сестры польского великого князя). Таким образом, подвиги Бруно Кверфуртского во славу Божию на земле Венгрии оказываются взятыми из биографии его ферденского тезки.
Но как быть с «Русью»? Ведь и Адемар не отказывает Бруно в чести быть «русским апостолом». Так можно ли утверждать, что и в этом случае сквозь послужной список Бруно Кверфуртского просвечивают реальные факты жизни Бруно Ферденского? Однако последний никогда не бывал в Киевской Руси.
Чтобы все встало на свои места, мы должны прежде уточнить: собственно, о какой Руси идет речь у Адемара? Вопрос законен не только с исторической стороны (средневековая Европа знала множество «Русий»), но также и со стороны текстологической. Вернемся к показанию Адемара: «Святой же Бруно обратил к вере область Венгрию [и] другую, которая зовется Русью». Переводчики этого текста традиционно отделяют Венгрию от Руси разделительным союзом «и», которого нет в оригинальном тексте. Делается это на том основании, что сохранение буквального смысла слов оригинала («Sanctus autem Brunus convertit ad fidem Ungriam provintiam aliam, que vo-catur Russia») «заставило бы предполагать, что в представлении Адемара Русь составляла одну из «областей» Венгрии» (Назаренко А.В., Древняя Русь на международных путях. С. 343). Между тем буквальное прочтение как раз и является правильным. Венгрия действительно имела в своем составе «Русскую область» — земли карпатских русин (которые и сегодня присутствуют в виде компактной этнической группы среди венгерского населения). В XI—XII вв. эту «Русь» передавали во владение (на правах феодального лена) наследникам венгерского престола, благодаря чему последние носили официальный титул «герцог русов». Ее-то и мог посетить Бруно Ферденский во время своей поездки по Венгрии.
Теперь мы можем, наконец, подвести итоги. Занимаясь составлением жизнеописания Бруно Кверфуртского, Адемар и Петр Дамиани опирались на уже существовавшую традицию (если только Адемар не был ее зачинателем), которая по неведению отождествляла Бруно-Бонифация с Бруно Ферденским, чему, в частности, способствовали схожие факты их биографий: оба они в свое время посетили Венгрию и Русь (каждый — свою). По законам житийного жанра, требовавшим от агиографа всемерного прославления деяний святого, при наложении друг на друга венгеро-«русских» похождений обоих Бруно за основу была взята миссионерская деятельность Бруно Ферденского, ибо Бруно Кверфуртский подвизался в Венгрии и Киеве без особого блеска. Таким образом Бруно-Бонифаций сделался участником событий 70-х гг. X в., как того требовали хронологические рамки епископского служения Бруно Ферденского. В дальнейшем, когда «русская» линия миссионерского служения Бруно Кверфуртского получила более подробное сюжетное развитие, она была вплетена в реальную историческую ситуацию на Руси после гибели Святослава — результат этого литературного творчества мы видим у Петра Дамиани. Однако и здесь, как кажется, не обошлось без обращения к «первоисточнику» — жизни Бруно Ферденского. Мы помним, что у Дамиани «король Руси» имеет наследника. Между тем у Ярополка не было детей. Зато адемаровский Бруно (то есть исторический Бруно Ферденский) обращает в христианство Гезу и его сына Вайка. Так напоследок выясняется, что и крещенный Бруно «король Руси» имеет к историческому Ярополку весьма отдаленное отношение.
По этим причинам я не думаю, чтобы сочинение Петра Дамиани годилось для каких бы то ни было реконструкций истории христианства на Руси в 70-х гг. X в. А без этого источника гипотеза Пархоменко—Назаренко теряет под собой всякую почву. Имея такую бабку, как княгиня Ольга, Ярополк совершенно не нуждался в духовном посредничестве «безвестных немецких миссионеров».
20
Василий II и Константин VIII считались василевсами со дня смерти отца. На тот момент им было 5 и 3 года соответственно. Поэтому фактическая власть долгое время принадлежала их соправителям: сначала Никифору Фоке (963—969), а затем Иоанну Цимисхию (969—976).
21
Паракимомен — высшая придворная должность, доступная евнухам. В обязанности паракимомена входило заботиться ночью о безопасности императора, для чего ему отводилось специальное место в царских покоях.
22
Археологическим подтверждением данного летописного сообщения В.Л. Янин считает находки из новгородского Троицкого раскопа — два деревянных замка-«цилиндра» для мехов со «знаками Рюриковичей», лежавшие в слоях 973—1051 гг. (ярусы 22—25). Один из этих княжеских знаков («трезубец») ученый усвоил Владимиру, другой Ярополку (см.: Янин В.Л. Археологический комментарий к Русской Правде // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 138—155). Однако их принадлежность к 25-му ярусу (973—991) базируется на безусловном доверии к летописному тексту, и, таким образом, система доказательств Янина сводится к тому, что одно неизвестное поверяется другим. Между тем оба предмета с равным успехом можно датировать временем Ярослава. Историческая наука пока что не может сказать, был ли у каждого русского князя свой личный родовой знак, как не установлено и то, с какими целями «знаки Рюриковичей» наносили на предметы обихода. «…Полезно помнить, — отмечает А.Л. Никитин, — что в указанное время (т. е. в X—XI вв.) лично-родовой знак чаще всего являлся «знаком присутствия» владельца, оказываемого им доверия, согласия, подтверждения, т. е. не мог распространяться на продукты ремесленного производства, на оружие дружины и пр., на чем настаивают археологи» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 303).
23
О скандинавах при дворе князя Владимира рассказывают две саги — «Сага об Олаве Трюггвасоне» и «Сага о Бьёрне, герое из Хитдаля». Для нашей темы они совершенно бесполезны, поскольку в обоих случаях речь идет о путешествиях на Русь отдельных лиц и вне всякой связи с походом Владимира на Киев. Малолетний Олав был привезен на Русь в конце 970-х гг. его матерью Астрид, которая бежала от дворцового переворота у себя на родине. Хотя сага и сообщает о наличии у Олава «большой дружины», но повзрослевший герой, в свою бытность на Руси, не совершает никаких других подвигов, кроме грабежа народов Восточной Прибалтики. Что касается «конунга Вальдемара», то он все это время преспокойно княжит в «Хольмгарде» (Новгороде), не имея соперника и не нуждаясь в помощи дружинников Олава. «Сага о Бьёрне» приурочивает пребывание своего героя «в Гардах» (на Руси) к 1008—1010 гг. (см.: Рыдзевская Е.Л. К вопросу об устных преданиях в составе древнерусской летописи // Древняя Русь и Скандинавия. IX —XIV вв. Материалы и исследования. М., 1978. С. 224), однако исторические реалии «русского эпизода» в этом произведении соответствуют политической ситуации еще более позднего времени — борьбе Ярослава с Мстиславом в 20—30-х гг. XI в. (см.: Толочко А.Л. Черниговская «Песнь о Мстиславе» в составе исландской саги // Чернигов и его округа: Сб. научных трудов. Киев, 1988).
24
В своих комментариях к этому отрывку из Титмара А.В. Назаренко пытается сохранить его мнимый «скандинавский колорит», уверяя, что «данами» в хронике Титмара, как и во многих других западноевропейских источниках, именуются скандинавы вообще, а не только собственно датчане» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 330). Уточним сразу, что датчане никогда не были скандинавами — ни «вообще», ни «в частности», поэтому ни у Титмара, ни «во многих других западноевропейских источниках» подобного значения этнонима «даны» встретить нельзя. Видимо, имеется в виду причисление «данов» к «норманнам», но это совсем другое дело (термин «норманны» — «северные люди» — не является этническим или, вернее, не имеет определенного этнического содержания). Тогда вопрос заключается в том, всегда ли Титмар, употребляя этноним «даны», разумел «норманны», и всегда ли эти «даны-норманны» означают у него не собствен но датчан, а жителей Скандинавии, шведов и норвежцев? Не думаю, чтобы дело обстояло именно так (хотя специального исследования на эту тему ни кто не проводил). Крупнейшие немецкие хронисты XI—XII вв. — Видукинд, Адам Бременский и Гельмольд — уверенно выделяли датчан в особую этническую группу.
25
Одного этого сообщения достаточно, чтобы опровергнуть домыслы об этническом тождестве «варягов» Владимира со скандинавами (см.: Гедеонов С.А. Варяги и Русь. Ч. I. СПб., 1876. С. 45). Однако в своем нежелании видеть очевидное иные ученые-норманнисты доходят до абсолютного научного нигилизма, утверждая, будто Перун — это не кто иной, как ославяненный Один или Тор, хотя хорошо известно, что культ Перу на, распространенный не только среди славянских племен, но также у балтов и албанцев, уходит корнями в эпоху индоевропейской общности. Подобные приемы свидетельствуют об исчерпанности собственно научных аргументов и конечном крахе норманнской теории.
26
В Повести временных лет он упоминается уже в 1015 г. под названием «поромонов двор»: «И воставше новгородци, и избиша варягы на дворе поромони». Летописец использовал здесь «кальку греческого прилагательного «верные» («поромоны». — С. Ц.), которое было синонимом «варангов» в византийской исторической литературе…» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 255). Выражение Βάραγγοι και παραμοναι (варанги или верные) было самым обычным в Византии, и, например, переписчик византийского историка XII в. Никиты Хониата использовал его 9 раз (см.: Васильевский В.Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков // Труды. Т. I. СПб., 1908, с. 331).
27
Может быть, речь идет о языческом святилище — «капище»? Ближайшие к Дорогожичам капища можно предполагать на Хоревице или на Щековице, где в XII в. были построены христианские храмы. Летопись особо указывает, что святые златоверхие церкви теперь высятся там, где некогда стояли языческие кумиры.
28
А.П. Новосельцев отмечает, что на Руси X—XI вв. противоборствующие князья захватывали власть, а не город, вследствие чего столица не подвергалась разграблению. Победивший претендент вступал в Киев как законный правитель и вел себя соответствующим образом (см.: Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // Вопросы истории. 1991. № 2—3. С. 15—16).
29
Летописную Родню наиболее часто отождествляют с городищем Княжая гора, которое, однако, находится не в устье Роси, а несколькими кило метрами выше по течению (см.: Мезенцева Г.Г. Древньоруське Мiстo Родень (Княжа гора). Киiв, 1968; Древнерусские княжества X—XIII вв. С. 44). В X в. здешнее укрепление, служившее временным убежищем для жителей соседнего открытого поселения, выглядело весьма скромно и мало подходило для длительного «сидения» в осаде. В городской детинец оно преврати лось только в XII—XIII вв.
30
Разброс мнений приблизительно таков: 1) это было «торжеством язы ческой стороны над христианскою» (Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. Кн. I. Т. 1—2. М., 1993. С. 167); или 2) «попыткой модернизации самой языческой религии, точнее, пестрых языческих верований, которым Владимир пытался придать стройность и ввести их в рамки, соответствующие укреплению и развитию классового общества…» (Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 309); 3) князь «хотел собрать всех богов, которым поклонялись различные племена, и составить из них в Киеве пантеон, обязательный для всего государства. Владимир желал создать такую религию, которая могла бы крепче объединить все его государство (Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 476); 4) Владимир стремился «поднять древние народные верования до уровня государственной религии» (Рыбаков Б.Л. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982. С. 395); 5) он «сделал попытку приспособить язычество к своей объединительной политике» (Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 344—345); 6) «Поставление кумиров» — идеологическая акция, с помощью которой киевский князь надеялся удержать власть над покоренными племенами, остановить начавшийся распад грандиозного союза племен во главе с Киевом» (Фроянов И.Я. Начала русской истории. С. 783); 7) речь идет «о простом и прозаическом деле — строительстве языческого капища на новом месте» (Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 210).
31
Нахождение святилища рядом с княжеским замком — характерная черта топографии славянских городищ. По Титмару, в замке князя редарей стояло капище бога Радегаста; в Щетине княжий двор располагался на холме бога Триглава.
32
Полное заглавие: «О законе, Моисеом [Моисею] даннем, и о благодати и истине [которые] Иисусом Христом бывший; и како закон отьиде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера во вся языкы простреся и до нашего языка русьскаго [достигла]; и похвала кагану нашему Владимеру, от негоже крещени быхом; и молитва к Богу от всея земли нашея».
33
Ср., напр., с более поздним летописным рассказом об «испытании вер» (под 986 г.), где богословские аргументы «варяга» вложены в уста пришедших к Владимиру папских послов: «вера бо наша яко свет есть, кланяемся Богу, иже сотвори небо и землю, звезды и месяц, и всяко дыхание, а бози ваши древо суть».
34
Как это и произошло впоследствии. Домонгольскому летописанию и внелетописным памятникам этого времени имена варягов-мучеников были неизвестны. Анонимное Слово на святую Четыредесятницу (вторая половина XI в.) называет их просто «мучениками Христовыми». Владимирский епископ Симон (1214—1226) в одном из своих посланий пишет о святом Леонтии Ростовском, крестителе Ростовской земли, убитом местными язычниками: «…се трети гражанин бысть Рускаго мира, с оне ма варягома венчася во Христе». А.В. Назаренко замечает по этому по воду: «Нигде выше у Симона речь о варягах-мучениках не шла, поэтому многозначительное «онема» приходится понимать как указание на тех всем известных варягов, которых в то же время невозможно назвать по именам, ибо они неизвестны» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 384). В этой связи весьма показательно, что на Руси не было храмов, поименованных в честь варягов-мучеников. Свои имена — Феодор (или Туры) и Иоанн, под которыми они поминаются ныне, — первые российские мученики получили уже в позднейшей церковной традиции, опиравшейся, по мнению И.И. Малышевского, на предания Киево-Печерской лавры (см.: Малышевский И.И. Варяги в начальной истории христианства в Киеве // Труды Киевской духовной академии. 1887. № 12. С. 23, 34).
35
А.В. Флоровский считает упоминание Перемышля поздней вставкой, вместо Перемиля у Червена (см.: Флоровский А.В. Чешско-русские торговые отношения X—XIII вв. // Международные связи России до XVII в. Сборник статей. М., 1961. С. 67. Примеч. 4).
36
Раскопки во Владимире-Волынском показали, что город действительно возник в конце X в. (см.: Кучинко М.М. Древний город Владимир на Волыни // Древнерусский город. Материалы всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию города Киева. Киев, 1984. С. 68).
37
В этих местах обнаружено погребение воина, вооружение которого состояло из панциря, ножа и боевого топора. По мнению Б.А. Рыбакова, это мог быть погибший в сражении с русами радимич (см.: Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. С. 301).
38
Кажется, никто из историков не обратил внимания на абсолютную невозможность наименования радимичей «пищаньцами» — по имени не значительной речушки. Скорее можно было бы ожидать «сожане».
39
Характерное высказывание, доказывающее, что целью походов Владимира было не «расширение торговых связей с Востоком», как пишется в большинстве исторических трудов, а поиск новых данников. Поток восточного серебра, с середины VIII в. поступавший в Европу через Хазарию и Волжскую Булгарию, к тому времени почти полностью иссяк, «один из последних серебряных дирхемов, о котором известно, что он был выпущен самими болгарами, датируется 986/987 г.». (Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750—1200. СПб., 2000. С. 232).
40
Археологический перечень видов оружия, найденного на территории Волжской Булгарии, выглядит внушительно: мечи, сабли, однолезвийные палаши, ножи, кинжалы, топоры, кистени, булавы, наконечники копий и стрел, рогульки (шары с шипами, которые бросали под ноги вражеской кавалерии).
41
Так, внезапный недуг заставляет обратиться к Богу «русского князя» Бравлина, напавшего в конце VIII в. на Сурож, как о том повествует Житие святого Стефана Сурожского. В одной из редакций Владимирова жития говорится, что тело Владимира покрылось струпьями, которые после крещения спали с князя в купели, как рыбья чешуя. Этот эпизод является буквальным заимствованием из исторической хроники византийского писателя IX в. Георгия Амартола, где он приурочен к крещению императора Константина Великого. Однажды, когда Константин разболелся проказою, во сне ему явились апостолы Петр и Павел. Они приказали позвать во дворец святого мужа, епископа Сильвестра, который один мог указать болящему путь к спасению. По совету Сильвестра Константин окунулся в купель — «и тотчас вышел царь из купели весь здрав, оставив струпы тела своего в воде, как рыба чешую» (Барац Г. Библейско-агадические параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом. С. 69—70).
42
Развивая тему женского влияния, Е.Е. Голубинский и А.В. Карташев предполагали, что Владимира могли склонить к крещению его жены-христианки — «грекиня» и две «чехини» (см.: Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 137). Но Повесть временных лет придерживается на этот счет другого мнения, полагая, что жены Владимира, наоборот, способствовали его удалению от Бога. Как известно, многоженец Владимир уподоблен в летописи многоженцу Соломону, о котором Библия сообщает следующее: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин… из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам»; к ним прилепился Соломон любовью… и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам… И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мер зости Аммонитской» (3 Цар., 11: 1—5). Этот библейский контекст сохранен и в отношении Владимира: в статье под 980 г. сообщение о поставлении кумиров «на холму вне двора теремного» соседствует с известием о много женстве Владимира, который «прелюбодейчич убо бе» и «бе побежен похотию женскою». Только с появлением «корсунской легенды» в житие Владимира вводится образ царевны Анны — «жены доброй», которая обратила его на путь истины.
43
Обращение Евстафия Плакиды, добродетельного язычника, произошло во время охоты, когда Спаситель явился ему в виде оленя.
44
Для полного соответствия с обращением Павла в житийную традицию о Владимире был введен мотив слепоты. Как Павел слепнет и прозревает через три дня, после возложения на него рук апостолом Аланией, который затем ведет его к купели, так и Владимир «болеет очами» во время осады Корсуни и исцеляется, последовав совету «доброй жены» (Анны) принять крещение. В «корсунской легенде» эта параллель несколько затемнена, но Густынская летопись прямо добавляет: «…и егда воз ложи на него руце епископ, абие прозре, якоже некогда Павел апостол». В тропаре святому Владимиру также поется: «И обрете безценный бисер Христа, избравшего тя, яко втораго Павла, отрясшаго слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную» (подробнее см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 441—446).
45
При ликвидации в 971 г. Иоанном Цимисхием Первого Болгарско го царства западные области Болгарии сохранили независимость от Византии. Во главе их находился комитопул (губернатор) Македонской фемы Николай Шишман, которому наследовали его сыновья (Комитопулы) — Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Первые трое братьев вскоре погибли, и в 976 г. борьбу болгар против Византии возглавил Самуил.
46
В 991 г. Роман умер, и царем Болгарии стал Самуил.
47
А.В. Назаренко высказал предположение, что в 982/983 г. Владимир также заключил союз с Отгоном II, направленный против Византии. После захвата в Италии города Таренто, принадлежавшего Византии (март 982 г.), германский император, по сообщению Санкт-Галленских анналов, намеревался овладеть всеми подвластными грекам итальянскими землями — «Кампанией, Луканией, Калабрией, Апулией и… даже до Средиземного моря», для чего сколачивал антивизантийскую коалицию. Но участие в ней Владимира пока что остается не более чем догадкой. Свою гипотезу о русско-немецких дипломатических контактах в начале 80-х гг. X в. Назаренко выстроил вокруг двух вещевых памятников того времени — медальонов с изображением Отгона II и его жены, гречанки Феофано, которые будто бы были подарены Владимиру немецкими послами. Последнее утверждается единственно на том основании, что происхождение обоих медальонов из русских частных собраний первой трети XX в. «позволяет думать, что обнаружены они были на территории России», хотя на самом деле «обстоятельства и точные места находок как того, так и другого экземпляров неизвестны» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 411—413, 420—421).
48
М.В. Левченко полагал, что известие Яхьи следует понимать в смысле «простой натянутости отношений». А.В. Назаренко справедливо отводит это мнение: «Такое понимание возможно, но не обязательно… Подобная щепетильность представляется несколько преувеличенной: в X в. не выступали с нотами протеста и не отзывали постоянных представителей — в какой еще форме могла проявиться враждебность, кроме непосредственных военных действий?» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 433).
49
Есть и другие толкования данного текста, обусловленные неоднозначностью его этнической номенклатуры. В частности, высказывалось мнение, что Иоанн Геометр иронизирует здесь над русско-византийским союзом против болгар (если «фракийцы» — это греки). Но в этом случае приходится допускать большие натяжки, вплоть до неоправданных конъектур текста и устранения заголовка эпиграммы (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 424—431).
50
«…иде Владимир на булгары и, победя их, мир учини и прият кресчение сам и сыновья его, и всю землю Русскую крести. Царь же болгарский Симеон приела иерей учены и книги довольны» (Татищев В.Н. Собр. соч. Т. I. С. 112).
51
В дополнение к приведенным известиям нередко пишут о том, что русское войско в 986 г. помогло Самуилу разбить византийцев у Траяновых Ворот. Основанием тому служат слова участника сражения Льва Диакона, который говорит о себе, что жизнь его подверглась тогда серьезной опасности и он едва не стал добычею «скифского меча». Но точно ли прилагательное «скифский» означает в данном случае «русский», а не «болгарский»? Текстологические наблюдения не подтверждают это мнение. В тех главах своей «Истории», где повествуется о вторжении в Болгарию Святослава, византийский хронист действительно неизменно называет болгар «мисянами», а русов — «тавроскифами» и «скифами». Однако затем Лев Диакон, похоже, отступил от этого правила, поскольку «именно в рассказе о битве у Сердики этноним «скифы» упоминается еще раз и почти наверняка в качестве обозначения болгар: «Сердика, которую скифы обычно именуют Тралицей»; это обстоятельство «сводит доказательную силу известия Льва Диакона практически к нулю» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 431—432). По- видимому, Владимир, не в пример отцу, все-таки поостерегся идти в глубь Болгарии и удовлетворился захватом «русского» участка Нижнего Дуная.
52
Многочисленное армянское население проживало на территории не скольких византийских провинций, образованных в 536 г. на месте бывших земель Великой Армении: Армения I со столицей в Визане-Леонтополе, Армения II со столицей в Севастии, Армения III со столицей в Мелитене, Армения IV со столицей в Мартирополе. К югу от Синопа существовала еще фема (административно-территориальная единица) Армениак.
53
Иверами византийцы называли главным образом грузин, но также и некоторые другие народы Кавказа, в частности армян-халкидонитов, придерживавшихся догмата о двух природах (духовной и телесной) Иисуса Христа, принятого Халкидонским вселенским собором (в отличие от основной массы армян, которые были монофизитами, отрицавшими теле сную природу Бога Сына).
54
Перевод на другую кафедру не мог быть осуществлен без санкции патриарха. Между тем из сообщений Яхьи известно, что с 16 декабря 991 г. и по 12 апреля 996 г. патриарший престол пустовал, как, вероятно, и Севастийская кафедра, получившая нового митрополита Феодора только в 997 г., то есть вскоре после поставления патриарха (см.: Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 377; Поппэ А. Политический фон крещения Руси. С. 207).
55
Кесарь — высший светский титул после императорского, жаловался чаще всего ближайшим родственникам императора.
56
Германский король сватал одну из дочерей покойного Романа II, которые все доводились Никифору Фоке падчерицами.
57
Русы («народ рос») отождествлялись в Византии с библейским на родом Рош, с которым связывалось исполнение пророчеств о падении Константинополя. В конце X — начале XI в. антирусские настроения в византийском обществе были достаточно сильны, о чем свидетельствует, например, одно византийское сочинение, где Владимир назван «змеем», похитившим несчастную Анну.
58
Три дочери брата Василия II, Константина VIII, не подходят под эту формулировку Герберта: старшая Евдокия к 987 г. постриглась в монахини; две другие — Зоя и Феодора, появившиеся на свет в 978—979 гг., — были еще детьми. Насчет Анны существует точное известие Скилицы, что она родилась 13 марта 963 г. (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 110).
59
«Сага об Олаве Трюггвасоне» рассказывает о своем герое, что, будучи еще язычником, он купил на вес золота щит с изображением креста. Сам предмет и цена, за него уплаченная, лучше всяких слов говорят о том, какого рода ценность представляла для Олава главная христианская эмблема.
60
Следует иметь в виду особенность древнерусского счета. Высчитывая дни или годы, прошедшие после отмеченного события, древнерусские люди начинали счет с того года (дня), в котором произошло это событие, а не со следующего за ним. Например, «третьего дня» означало не «через два дня на третий», а «позавчера»; «в третье лето» — «через год» (см. у того же Иакова Мниха: «на другое лето по крещении к порогом ходи, на третье Корсунь город взя») и т. д. «Десятое лето», отсчитываемое от 978 г., дает таким образом 987 г.
После того как в 1888 г. А.И. Соболевский обратил внимание на эту особенность древнерусской метрологии (см.: Соболевский А.И. В каком году крестился св. Владимир? // Журнал Министерства народного просвещения. 1888. № 6. С. 399), в ученой среде разгорелся жаркий спор, так как в «Памяти и похвале Владимиру» есть и другое хронологическое указание: «По святем же крещении поживе блаженый князь Володимир 28 лет». С учетом указанного арифметического метода оно выводит на 988 г. (1015—27 = 988). Но это значило бы, что Иаков, противореча сам себе, смыкается в данном случае с известием Повести временных лет, которая приурочивает крещение Владимира к взятию Корсуни, датируя оба события 988 г. Между тем Иаков пишет, что корсунский поход состоялся «на третье лето» после крещения князя, и, следовательно, придерживается в этом вопросе собственной, а не летописной хронологии. То, что дата крещения Владимира у Иакова не может совпадать с летописной, явствует также из того, что смерть Ярополка, от которой отсчитывается «десятое лето», датирована у него 978 г., тогда как Повесть отмечает ее под 980 г. Противоречие двух систем высчитывания времени крещения Владимира — от года смерти Ярополка и от года кончины самого Владимира, — по всей видимости, объясняется тем, что фраза «По святем же крещении поживе блаженый князь Володимир 28 лет» принадлежит не Иакову Мниху, а позднейшему редактору его «Похвалы», который ориентировался на летописную хронологию. Преподобный Нестор в своем «Чтении о Борисе и Глебе», говоря о крещении Владимира, называет, как и Иаков Мних, 987 г. Надо полагать, что в XI в. эта дата была общепринята.
61
Ср. с сообщением Иоакимовской летописи: «…иде Владимир на булгары и, победя их, мир учини и приат кресчение сам и сынове его…» (Татищев В.Н. Собр. соч. Т. I. С. 112). Ничего не зная о переговорах Владимира с Василием II, летописец тем не менее сохраняет ту же последовательность: заключение мирного договора — крещение.
62
За «цареградское крещение» Владимира высказывался А.Л. Никитин, поделившийся двумя своими наблюдениями над летописным текстом (см.: Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 48—49, 248). Во-первых, по чтению Ипатьевского списка Повести временных лет, крещение Владимира состоялось в Корсуни, «в церкви святое Софьи», что, по мнению исследователя, может быть отголоском воспоминаний о крещении князя в константинопольской Святой Софии. Затем ученый предложил по-новому взглянуть на летописный «Василев», в котором, согласно «несведущим», произошло обращение Владимира. Древнерусский Василев на Стугне был заложен уже после княжеского крещения, о чем свидетельствует его на звание, образованное от крестильного имени Владимира (Василий). Но, возможно, его упоминание в летописи в связи с крещением Владимира — не простой анахронизм. Этот топоним мог появиться в Повести временных лет вследствие искажения греческого слова «Василебполис», то есть «город василевсов», как нередко назывался Константинополь в самой Византии и за границами империи (так, «Царьград» является древнерусской калькой с «Василеополиса»).
63
Уверенность в том, что дружинники последуют за князем в вопросах веры, выражена в летописи словами Ольги, которая увещевала Святослава: «Если ты крестишься, то и все то же сотворят».
64
Вопрос о личном участии Владимира в походе против Варды Фоки, время от времени поднимаемый в литературе, следует решить отрицатель но ввиду ненадежности источников, которые сообщают об этом. К таковым относятся прежде всего известия двух арабских писателей XIII в. — аль- Макина («и отправился царь русов со всеми войсками своими к услугам царя Василия и соединился с ним. И они оба сговорились пойти навстречу Варде Фоке и отправились на него сушею и морем и обратили его в бегство…») и аль-Асира («и женился он [царь русов] на ней [сестре Василия], и пошел навстречу Вардису [Фоке], и они сражались и воевали»). Оба автора являются всего лишь более или менее добросовестными ком пиляторами своих предшественников (в частности, Яхьи Антиохийского), у которых, однако, подобных сведений нет. Одно время также считалось, что можно положиться на показание Скилицы, так как в латинском пере воде его исторической хроники Василий II вручает Владимиру начальство над императорским флотом, пока не выяснилось, что в греческом оригинале его сочинения данное сообщение отсутствовало.
65
Из летописной статьи под 1093 г. явствует, что даже столетие спустя совокупная численность городовых ополчений Киева, Чернигова и Переяславля (то есть собственно «Русской земли», в узком значении термина) не превышала 8000 человек.
66
В Повести временных лет сказано: «…повеле кумиры испроврещи, овы осечи [вар.: изсещи], а другие огневи предати». Различные способы «казни» кумиров вызвали реплику С.М. Соловьева: «Осечи относится, думаем, к каменным кумирам, огневи предати — к деревянным» (Соловьев С.М. Сочинения. Т. I. С. 307. Примеч. 248). Но на самом деле летописец не имел никакого понятия о материалах, из которых были сделаны истуканы в Киеве, поскольку в данном случае больше сверялся с Библией, чем с историческими источниками. В Четвертой книге Царств можно прочитать о том, как царь Иосия разрушил жертвенники Ваала и изломал статуи языческих богов (4 Цар., 23: 4, 14); царь Аса изрубил истукан Астарты и сжег его у потока Кедрон (3 Цар., 15: 12) и т. д. Сообщение Иакова Мниха в этом смысле более реалистично.
67
Житие Оттона Бамбергского сообщает о крещении поморских славян: «В таком огромном городе, как Щетин, не нашлось ни единого чело века, который бы, после общего согласия народа на принятие крещения, думал укрыться от Евангельской истины, кроме одного жреца… Но к нему однажды приступили все и стали его премного упрашивать».
68
Титмар Мерзебургский сообщает о лютичах, что, «единодушным советом обсуживая все необходимое по своему усмотрению, они соглашаются все в решении дел. Если же кто из находящихся в одной с ними провинции не согласен с общим собранием в решении дела, то его бьют палками; а если он противоречит публично, то или все свое имущество теряет от пожара и грабительства, или в присутствии всех, смотря по значению своему, платит известное количество денег».
69
В этом смысле, пожалуй, можно согласиться с утверждением П.Я. Чаадаева, что Русь обязана своим крещением народной воле.
70
Относительно дня крещения киевлян существует остроумная гипотеза Рыбакова—Рапова. Изучение архитектурного устройства древнерусских храмов навело Б.А. Рыбакова на мысль, что «в древности ориентировка церквей производилась на реальный восход солнца в день празднования того святого, которому посвящен храм» (цит. по: Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 244). Применив азимутальный метод к киевской церкви Святой Богородицы (Десятинной), возведенной Владимиром в память крещения Киева, ученый установил, что храмовый праздник этого собора должен был приходиться либо на 1 августа, либо на 2 марта. Последняя дата в церковном календаре с Богородицей никак не связана. Зато 1 августа (по старому стилю) православная Церковь празднует Происхождение изнесения честных дерев животворящего креста Господня и начало Успенского поста (в честь Успения Богородицы). В Византии в этот день совершалось освящение воды в реках, озерах и других источниках. Примечательно также, что в одной рукописи XVI в. из Московской синодальной библиотеки сказано: «крестися князь великий Володимер Кыевский и вся Русь августа 1». Год крещения, правда, перепутан, но древнерусские церковные месяцесловы вообще не отличались особой точностью в отношении «лет» (ошибались даже в годах проведения Вселенских соборов). В безупречном погодовом исчислении не было надобности, так как для праздничного поминовения имели значение дни, а не годы знаменательных церковных событий.
71
Эта краткая запись не называет причины путешествия, но сама ее лаконичность, по мнению А. Поппэ, «свидетельствует в пользу древности заметки, когда повод похода князя к порогам был очевиден» (Поппэ А. Политический фон крещения Руси. С. 236). Единственный пример хождения киевского князя к порогам — и именно ради встречи и препровождения в Киев княжей невесты — сохранился в Лаврентьевской летописи. В 1154 г. великий князь Изяслав Давыдович, недавно овдовевший, ожидал приезда в Киев грузинской княжны, которая должна была стать его новой супругой. Сын его Мстислав, посланный навстречу мачехе, «срете ю [встретил ее] в порозех и приведе ю к Киеву…».
72
Считается, что данные «корсунской легенды» подкрепляет одно со общение Титмара Мерзебургского: «Он [Владимир] взял жену из Греции… По ее настоянию он принял святую христианскую веру, которую добрыми делами не украсил, ибо был великим и жестоким распутником и учинил большое насилие над изнеженными данайцами [греками]». В последних словах видят указание на корсунский поход (см.: Древняя Русь в свете за рубежных источников. С. 318). Но при этом упускается из виду, что «большое насилие» над греками произошло, согласно Титмару, после женитьбы Владимира на Анне, тогда как корсунский поход предшествовал этому со бытию. Кроме того, из контекста Титмарова показания явствует, что греки пострадали не в военном, а в религиозном отношении, вследствие нарушения Владимиром каких-то христианских норм. Наконец, обратим внимание на то, что возможен иной перевод этого места: «…и чинил великие насилия…» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 440), при ко тором несовершенная форма глагола «чинить», указывающая на продолжительное действие («чинил»), и множественное число «насилий» совершенно лишают данный фрагмент всякой связи с походом на Корсунь. Так что, скорее всего, немецкий хронист намекает здесь на противостояние Владимира с византийской церковной иерархией, о чем речь впереди.
73
Некоторые ученые даже находят возможным говорить о «независимости» Херсона в качестве города-государства, который лишь поддерживал дружественные отношения с Византией (см., напр.: Соколова И.В. Администрация Херсона в IX—XI вв. по данным сфрагистики // Античная древность и Средние века. Свердловск, 1973. Т. 10. С. 207—209).
74
Все три фемы находились на северном (черноморском) побережье Малоазийского полуострова.
75
Здесь я отступаю от версии Поппэ, будто Владимир осадил Херсон по просьбе Василия II, который рассчитывал таким способом вернуть империи мятежный город. Это невероятно хотя бы потому, что херсониты, без сомнения, пресекли всякую возможность посольских сношений василевса с Киевом по Черному морю и Днепру. Приписывание византийскому императору инициативы корсунского похода — безусловно, самое слабое место концепции Поппэ, почему в свое время ей и не было уделено должного внимания со стороны историков.
76
Свидетельство римского историка и военного теоретика Флавия Вегеция (IV—V вв.).
77
Поскольку летопись не приводит названия «лименя», на берегу которого находился лагерь Владимира, некоторые ученые думали, что пристанищем ему мог служить один из двух заливов, лежавших к западу от Херсона, — Круглый или Херсонесский. Но русский археолог А.Л. Бертье-Делагард, тщательно обследовавший местность вокруг Херсона, опроверг это мнение. По его наблюдениям, Круглый залив отстоит слишком далеко от города, чтобы оттуда можно было вести осаду, а Херсонесский хотя и прилегает к городу, но «совершенно негоден для стоянки судов по своей полной открытости, ничтожной величине и мелководью; заливом это место величает лишь щепетильность современных карт, в действительности же это ничтожная выщербина берега. Вся эта бухточка находится под выстрелами и на виду с городских стен; даже очень малому флоту тут совсем не поместиться». Между тем стоянка в Карантинной бухте была «безусловно тишайшая, при каких бы то ни было погодах; мало того, с точки зрения чисто осадной, она и весь стан вокруг были за горой, вне какого-либо наблюдения из города, а стоило пройти двести-триста шагов, как с командующих высот… открывался весь город, даже его внутренность, как на ладони. Тут же, к этой же бухте прилегла и наиболее уязвимая часть укреплений Корсуня. Наконец, то же верховье бухты обладало редким в местном смысле, неоценимым, важнейшим условием жизни — изобилием пресной воды в нескольких колодцах, на самом берегу бухты» (Бертье-Делагард А.Л. Как Владимир осаждал Корсунь. СПб.. 1909. С. 9—10).
К «следам войны», якобы полыхавшей в западной части Херсона, относят также несколько расположенных здесь могил с 50—70 захоронениями в каждой (см.: Беляев С.Л. Поход князя Владимира на Корсунь (его последствия для Херсонеса) // Византийский временник. Т. 51. М., 1990. С. 163). Но если эти погребения действительно сделаны во время осады 989 г., то свидетельствуют они как раз об обратном, то есть что активные военные действия происходили в противоположных (южной и восточной) частях города, так как хоронить своих павших воинов херсониты, безусловно, должны были не под носом у противника, а в той стороне города, где сохранялось относительное спокойствие.
78
Обращенная к корсунянам угроза Владимира, которую приводит летопись: «если не сдадитесь, то буду стоять три года», без сомнения, является всего лишь фольклорной метафорой. Зимовать под городом, в открытом поле значило погубить войско — достаточно вспомнить, что именно тяжки ми бедствиями зимовки предание объясняет поражение дружины Святослава в столкновении с печенегами у порогов.
79
Авторитет Н.М. Карамзина узаконил ошибочное мнение, что приспа — это «вал, насыпаемый перед стенами, чтобы окружить оныя, по древнему обыкновению военного искусства» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. 5-е. Т. I. СПб., 1842. С. 130. Примеч. 450). Но вал есть насыпь, а не присыпь, его именно насыпают, а не присыпают. К тому же вал — сооружение сугубо оборонительное и возводить его в конце осады — занятие довольно-таки бестолковое. Обнести Корсунь валом было невозможно еще и по той причине, что «вся почва вокруг Корсуни есть сплошная почти скала, едва прикрытая тощим слоем земли» (Бертье-Делагард А.Л. Как Владимир осаждал Корсунь. С. 23).
80
В 250 г. готы, осадившие Филиппополь, делали присыпь к его стенам, и горожане пытались противодействовать им точно таким же способом, как херсониты (см.: Бертье-Делагард А.Л. Как Владимир осаждал Корсунь. С. 25).
81
В одном солунском предании то же самое рассказывается о предателе- монахе, пустившем стрелу с надписью об отводе воды в расположение войска турецкого султана (см.: Гудзий Н.К. История древней русской литературы. Изд. 3-е. М., 1945. С. 134).
82
Кажется, последний раз в русской военной истории стрела была использована в почтовых целях при осаде Азова в 1697 г., когда по приказу Петра I лучник забросил в город царское послание с предложением капитуляции.
83
В Житии Владимира особого состава наблюдается крупное расхождение с данными Обычного жития и Повести временных лет: жителем Корсуни, выпустившим предательскую стрелу, здесь выступает варяг Ждьберн (варианты: Жедберн, Жиберн, Ижберн), присоветовавший Владимиру пере копать земляной путь, по которому в город поступает питие и корм. Считать сведения этих источников дополняющими друг друга, очевидно, нельзя. Ждьберн является лицом легендарным хотя бы по одному своему «варяжеству» (корпус «варангов», сформированный в византийской армии, получил свое название не ранее первой трети XI в.), а мысль о том, что ежедневную потребность многотысячного населения Херсона в еде и, главное, в воде можно было удовлетворить посредством снабжения осажденного города посуху, доставляя припасы по какой-то тайной тропинке (или подземному ходу), изобличает полное отсутствие у автора Жития особого состава реального представления о ходе осады и топографических условиях местности. Вследствие этого в данном источнике позволительно видеть сугубо литературное произведение, возникшее не раньше конца XI — начала XII в.
84
Согласно Льву Диакону, «захвату тавроскифами Херсона» предшествовало появление в северной части неба «огненных столпов», которые предвозвестили это событие. Образ «огненных столпов», несомненно, воз ник у Льва Диакона под впечатлением одного из апокалипсических видений Иоанна Богослова: «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные…» (Откр., 10: 1). По всей вероятности, посредством евангельской метафоры византийский историк описал полярное сияние — зрелище крайне редкое в этих широтах, но тем не менее известное здесь с глубокой древности. Из слов Льва Диакона можно заключить, что его взорам предстала та разновидность полярных сияний, которая «имеет вид неподвижных дуг (причем одновременно могут быть видимы несколько таких дуг, расположенных параллельно). Цвет этих сияний чаще всего бледно- зеленый и очень редко красный или лиловый, но как раз на юге Европы он именно красных тонов» (Богданова Н.М. О времени взятия Херсона князем Владимиром // Византийский временник. Т. 47. М., 1986. С. 43—44). Современным ученым, конечно, трудно смириться с тем, что Лев Диакон по какой-то странной забывчивости ни словом не обмолвился о времени, когда наблюдалось это небесное явление. После В.Р. Розена (см.: Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 28—29) сделалось общепринятым отождествлять «огненные столпы» Льва Диакона с явлением «огненного столба» в Каире 7 апреля 989 г., о котором сообщает Яхья: «И случилось в Каире в ночь на субботу 27-го Зу-л-Хиджры 378 г. [7 апреля 989 г.] гром и молния и буря сильная, и не переставали они до полуночи. Потом покрылся мраком от них город, и была тьма, подобия которой не видывали, до утра. И вышло с неба подобие огненного столба и покраснели от него небо и земля весьма сильно. И сыпалось из воздуха премного пыли, похожей на уголь, которая захватывала дыхание, и продолжалось это до четвертого часа дня. И взошло солнце с измененным цветом и продолжало всходить с измененным цветом до вторника второго Мухаррема 379 г. [12 апреля 989 г.]». Однако О.М. Рапов обратил внимание, что с естественнонаучной точки зрения природа «столпов» Льва Диакона и Яхьи явно не одинакова, так как полярные сияния вызываются магнитной бурей и бывают видны только в ясные ночи. Природное же явление в Каире 7—12 апреля 989 г. больше похоже на мощное извержение вулкана (столб огня, вспышки пламени в небе, угольная пыль и пепел, застилающие свет, и т. д.). В небольшом отдалении от Каира как раз находится Сирийско-Аравийская группа вулканов (см.: Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 227—228). Эти соображения, — на мой взгляд, совершенно справедливые, — не позволяют приурочить явление «огненных столпов» Льва Диакона к безупречно датированному сообщению Яхьи.
Но далее, сразу же после сообщения об «огненных столпах», Лев Диакон упомянул о другом небесном знамении — необычной «звезде, появлявшейся с закатом солнца на западе, которая, совершая свой восход по вечерам, не сохраняла, однако, прочного положения в одном центре, но, испуская светлые и блестящие лучи, делала частые перемещения, будучи видима то севернее, то южнее, а иногда даже при одном и том же восхождении изменяя свое местоположение в эфирном пространстве…». Тревожные предчувствия, вызванные ее появлением, говорит Лев Диакон, подтвердились в самом скором времени, когда накануне Дня святого Димитрия (празднуется 26 октября) сильные подземные толчки обрушили часть свода константинопольского храма Святой Софии. Византийский хронист и здесь обошелся без точной датировки появления кометы, но в этом случае его упущение поправимо, поскольку из сообщений Яхьи и Степаноса Таронского известно, что восхождение на небе «копьевидной звезды», которую армянский историк, подобно Льву Диакону, прямо связал с землетрясением в Константинополе, началось 27 июля и продолжалось через определенные промежутки времени по крайней мере до 15 августа. Это была комета Галлея, прошедшая в 989 г. очень близко от Земли (см.: Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 230—231).
Таким образом, выходит, что взятие русами Херсона, по Льву Диакону, произошло до 27 июля, то есть до появления кометы Галлея, предвестницы нового бедствия — землетрясения в византийской столице. Правда, это может быть верно с той оговоркой, что «Лев при связывании этих знамений с указанными событиями не увлекся, так сказать, симметричностью, приурочивая к каждому знамению особое событие» (Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 217). Если же это не так, и Льву Диакону была важна не временная очередность знамений (когда первое знамение должно исполниться непременно до того, как случилось второе), а только их жесткая привязанность к конкретным событиям («огненных столпов» — к взятию Херсона, «звезды» — к разрушению Святой Софии), вне зависимости от хронологической последовательности, то нам придется отказаться от точных датировок и отнести падение Херсона к промежутку между концом июля и последними числами октября 989 г. (временем окончания черноморской навигации), так как, не взяв город до этого срока, Владимир должен был бы снять осаду и вернуться в Киев. Но и тогда осада Корсуни укладывается в существенно меньшее время, по сравнению с минимальным сроком древнерусских житий — шесть месяцев.
85
Первым об этом заявил в 1950 г. А.Л. Якобсон: «Что Херсон действительно пострадал и очень сильно, показывает археологический материал, именно слой пожарища, датируемый монетами со второй половины IX в. по конец X в. и хронологически показательным материалом… Теперь уже невозможно установить, каким путем возник этот всеобщий пожар в Херсонесе… Остается факт: пожар уничтожил значительную часть города. Вся западная половина его опустела и превратилась в пригород — место свалки городского мусора». Между тем Якобсон самостоятельно Херсон не исследовал и только сослался на отчет К. К. Косцюшко-Валюжинича о раскопках в городе в 1901 г. Однако Косцюшко ничего не говорит о пожарах и разрушениях, связанных с осадой Херсона Владимиром. Пресловутое же «запустение» западной части города, то есть отсутствие в ее культурном слое керамики и монет, исчерпывающе объясняется тем, что средневековые слои земли отсюда были взяты на сооружение оборонительного вала во время Крымской войны 1853—1856 гг. Тем не менее слово было сказано, и последующие исследователи средневековой истории Херсона вступили в многолетнюю перекличку с тезисом Якобсона: «…результаты многолетних археологических раскопок в Херсонесе показывают, что в конце X века город подвергся пожару и сильнейшим разрушениям» (Д.Л. Талис); «…после разгрома, который по терпел город в 989 г., он почти столетие лежал в развалинах» (И.В. Соколова) и т. д. (все цитаты даны по: Беляев С.Л. Поход князя Владимира на Корсунь).
86
Летопись добавляет еще, что Владимир «взя» в Корсуни «медяне две капищи (в Никоновской летописи читаем вариант: «два болвана медяны», а в летописце Переяславско-Суздальском пояснено: «яко жены образом медяны суще») и четыре кони медяны, иже и ныне стоять за святою Богородицею, якоже неведуще мнять я мрамаряны суща». Однако, несмотря на топографическую подробность, есть все основания подозревать чисто литературное происхождение этого фрагмента, определенно чужеродного первоначальному тексту летописи, так как два «капища» и медные «болваны», похожие на «жен», имеют довольно точное соответствие в двух столбах из полированной меди и в двух херувимах, которые украшали вход в иерусалимский Храм Господень (3 Цар., 6: 23—27; 7: 15, 21); на страницах Библии встречаем и «коней, которых ставили цари Иудейские солнцу пред входом в дом Господень» (4 Цар., 23: 11). О том, что летописцы при описании корсунской «добычи» Владимира заглядывали в Библию, со всей очевидностью свидетельствует Никоновская летопись, где к уже перечисленным предметам прибавлены «три лвы медяны» — и, несомненно, только потому, что на ступенях трона царя Соломона также стояли медные львы (3 Цар., 10: 19—20).
87
Посольство топарха в Киев имело место летом—осенью 991 г., судя по некоторым датирующим деталям в его «Записке». Так, на обратном пути, находясь в низовьях Днепра, топарх и его спутники наблюдали Сатурн в «началах Водолея». В конце X в. подобная астрономическая комбинация в этой части Северного Причерноморья могла быть видима в период с 15 декабря 991 г. по 15 января 992 г. (см.: Литаврин Г.Г. Записка греческого топарха (документ о русско-византийских отношениях в конце X в.) // Из истории средневековой Европы (X—XVII вв.). М., 1957. С. 117). Уточняющей подробностью к этому известию служит замечание топарха о начавшемся ледоставе на Днепре, который в нижнем своем течении замерзает обычно в конце декабря.
88
В литературе можно встретить и другие мнения о месте действия военного конфликта, описанного в «Записке греческого топарха». Разночтение возникло по причине фрагментарности этого источника и туманного стиля его автора, который постоянно оставляет читателя в недоумении среди расплывчатых этнических формулировок и географических ориентиров. Больше всего споров вызвало указание топарха на то, что, совершив на обратном пути из Киева переправу через Днепр в низовьях реки, он двинулся по направлению к селению Маврокастрон («Черный город»). Но куда — на запад или на восток? В.Г. Васильевский полагал, что его путь лежал к устью Днестра, где итальянские карты XIV в. фиксируют город Маврокастр (см.: Васильевский В.Г. Труды. Т. I. Ч. II. С. 193). Однако более ранних упоминаний об этом населенном пункте нет; в то же время на побережье Черного моря встречается еще немало географических названий, образованных от греческого слова «маврон» (см.: Литаврин Г.Г. Записка греческого топарха. С. 119), а термин «Климаты» Константин Багрянородный прочно увязывает с Херсоном и Крымом. Кроме того, если бы топарх взял курс от низовьев Днепра к Днестру, то ему незачем было бы переправляться через Днепр, ведь Киев лежит на правобережье этой реки. Другое возражение против крымской локализации владений топарха заключается в том, что именование Владимира «царствующим к северу от Дуная» плохо вяжется с местонахождением владений топарха в Крыму. Но именно Дунай, а не Крым считался официальной северной границей Византии, и, например, Константин Багрянородный постоянно пользуется этим ориентиром, говоря о «варварских» народах Северного Причерноморья, в том числе о печенегах и хазарах, хотя для определения их местоположения, как и в случае с Русью, гораздо точнее было бы назвать другие реки — Днестр, Днепр, Дон и т. д. («Об управлении империей», гл. 25, 40, 42).
89
Тот же дисциплинарно-иерархический принцип засвидетельствован современным Повести временных лет немецким источником (Житие От- тона Бамбергского). Жители одного поморского городка сказали Оттону Бамбергскому в ответ на предложение креститься: «Поди ты в наш старший город; если там тебя послушают, то и мы послушаем».
90
В летописи этот термин появляется с середины XII в. Однако его употребление в церковном уставе Владимира, вообще сильно испорченном позднейшими правками, нельзя отнести к анахронизмам, поскольку др.-рус. слово «слобода» принадлежит к праславянскому слою лексики (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. С. 672). Впрочем, его значение для конца X в. неизвестно. В XII—XV вв. слободами называли поселения, жителям которых власти предоставляли временные или бессрочные свободы («слободы») — экономические льготы, привилегии и т. д. Слободы возникали в пустынных или малообжитых местах, но всегда поблизости от городов или непосредственно примыкая к последним. Крупные слободы и сами были чем-то вроде городов. Про два таких по селения летопись говорит (под 1283 г.): «и быша тамо торги, и мастеры всякие; и быша те две великия слободы якоже грады великие» (Ключевский В.О. Сочинения. Т. VI. С. 199—201).
91
Эта дата, приводимая Никоновской летописью, отличается исключи тельной точностью. Далее, под тем же годом, летописец замечает: «Того же лета умножение всяческих плодов бысть…» Действительно, как показывают дендрохронологические исследования Б.А. Колчина и Н.Б. Черных, для конца X в. пик роста годичных колец деревьев на территории Новгородской земли приходится на 990 г., что свидетельствует о чрезвычайно благоприятных климатических условиях, сложившихся в этом году (см.: Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 262, 287).
92
Воины Путяты у Татищева названы «ростовцами». Вероятно, в изложении истории крещения Новгорода Иоакимовская летопись придерживалась того же порядка событий, что и Никоновская летопись, согласно которой Добрыня в 991 г. (в промежутке между «малым» крещением Нов города в 990 г. и «низвержением Перуна» епископом Иоакимом в 992 г.) ходил с епископами «по Русской земле и до Ростова». Отсюда как будто следует, что Путята был ростовским тысяцким, пришедшим на помощь Добрыне. Однако это плохо вяжется с тем фактом, что Путята и его «ростовцы» проявили превосходное знание топографии Новгорода и его окрестностей, позволившее им безошибочно ориентироваться в ночной темноте.
93
Когда раскопки на новгородском левобережье вскрыли следы огромного пожара, охватившего в 989 г. территорию Неревского и Аюдиного концов, В.Л. Янин заявил, что обнаружена археологическая иллюстрация к событиям, описанным в Иоакимовской летописи (см.: Янин В Л. День десятого века. С. 17—18). По-моему, на это есть что возразить. Во-первых, 989 г. — год похода на Корсунь — в качестве даты крещения Новгорода выглядит проблематично: распылять силы было не в интересах Владимира. Во-вторых, показание Иоакимовской летописи «повеле у брега некие домы зажесчи» не соответствует масштабам пожара 989 г. В-третьих, высадка войска Добрыни произошла в одном месте (скорее всего, в Людином конце, южнее кремля), следовательно, поджечь другой конец города он не мог (парируя этот довод, Янин предположил, что Неревский конец подожгли сами новгородцы, но это противоречит тексту Иоакимовской летописи и здравому смыслу).
94
В городе обнаружены остатки культовой языческой постройки, намеренно уничтоженной в последней четверти X в. (см.: Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси. Л., 1990. С. 55). Это значит, что ладожане последовали примеру Новгорода, сокрушившего своих языческих кумиров.
95
168 лет — по Воскресенской и Тверской летописи, 165 — по Мазуринскому летописцу и Степенной книге, 162 года — по Владимирскому летописцу.
96
Церковный чин рукоположения в епископы предусматривает сослужение двух или трех архиереев, поэтому в поставлении главы Печенежской епископии должны были принять участие, помимо Бруно, еще два русских епископа.
97
Известие той же летописи под 990 г. об отправлении в Волжскую Булгарию миссии «философа» Марка Македонянина является поздним апокрифом, развивающим сюжет об «испытании вер». Но теперь уже Владимир пытается обратить болгар на путь истины, напутствуя своего посла следующим образом: «яко приходиша [болгары] ко мне прежде, егда еще не просвещен бех верою православною, хвалящее свою веру скверную, и мене ю нудящее приати; аз же уведех истинно о ней, яко гнусна есть, и не приах ю; ты же иди к ним, и проповежь им слово Божие, яко да верують в господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и да крестятся божественным его крещением» и т. д. Марку не удалось убедить болгар переменить веру, но после его возвращения в Киев «приидоша из Болгар к Володимеру… четыре князи, и просветишася божественным крещением; Володимер же чествова их и много удовольствова». Появление этого сюжета следует датировать периодом борьбы Москвы с Казанским ханством, то есть не ранее XV — первой половины XVI в.
98
В конце XIX в. в Ватиканской библиотеке была найдена греческая рукопись XIV в. (так называемый Ватиканский кодекс или Ватиканская хроника), где среди различных более или менее лаконичных заметок находится следующая: «В году 6496 [988] был крещен Владимир, который крестил Россию». Но ее изучение показало, что данное известие не является оригинальным, поскольку Ватиканская хроника представляет собой сокращенный греческий перевод Повести временных лет (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 108—109).
99
Автокефальность Болгарской церкви утвердили поместные соборы в Константинополе 870 и 879—880 гг. Константинопольский патриарх сохранил за собой право поставления болгарского архиепископа, но избрание последнего сделалось прерогативой поместного собора епископов Болгарии. С усилением Болгарской державы при Симеоне (888—927) болгарский архиепископ был возвышен в сан патриарха. Патриаршая кафедра находилась в городе Охриде. После завоевания Болгарии Византией в 1014— 1019 гг. охридский патриарх снова стал называться архиепископом, но его кафедра сохранила автокефальный статус.
100
Голубинский указывал на двойственную титулатуру наших первоиерархов (митрополит и архиепископ) в древнерусских памятниках XI—XII вв., объясняя это тем, что титул первого главы Русской Церкви — автокефального архиепископа — древние писатели перенесли по старой памяти на по следующих русских митрополитов. Гипотеза Приселкова основана на со впадении имен охридских и киевских архиепископов первой трети XI в.
101
Г.В. Вернадский, защитник тмутороканской теории Голубинского, утверждал: «Киевская епархия никогда не упоминается в источниках той поры» (Вернадский Г.В. Киевская Русь. С. 77). Столь же голословен Карташев А.В, когда, повторяя М.Д. Приселкова, пишет о том, что Владимир «не ввел вновь созданную им Русскую Церковь в юрисдикцию Константинопольского патриархата» (Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 148).
102
Например, болгары добились автокефального статуса для своей Церкви после многолетней борьбы, в ходе которой болгарский князь Борис I прибегнул к таким радикальным средствам давления на Константинопольскую патриархию, как высылка из страны греческого духовенства и обращение к покровительству римского папы.
103
К числу деяний Феофилакта в сане русского митрополита, по-видимому, следует отнести еще и введение им почитания Севастийских мучеников (память отмечается 9 марта). Уже при росписи собора Святой Софии в Киеве их изображения заняли значительную площадь в центральной части храма (до наших дней сохранилась групповая композиция в ледяном озере и 15 из 40 медальонов с поясными изображениями святых). Феофилакту, как бывшему митрополиту Севастии, в своем новом служении на далекой окраине Понта естественно было возлагать особые надежды на помощь Севастийских мучеников. Примечательно также, что 8 марта, за день до празднования памяти Севастийских мучеников, Православная Церковь отмечает память исповедника епископа Феофилакта Никомидийского (ум. около 845 г.). «Подобные совпадения, — пишет о. Александр Салтыков, — в церковной среде всегда воспринимались как духовные символы» (Салтыков Александр (протоиерей). Историческое значение изображений Севастийских мучеников в Софии Киевской // Искусство христианского мира. Сборник статей. Вып. 5. М., 2001. С. 15—25).
104
Перечень митрополитов в Новгородской I летописи и церковный устав Владимира (в древнейшей редакции конца XIII в.) отдают первенство Леону, на самом деле второму по счету русскому митрополиту. В некоторых более поздних редакциях устава Владимира, а также в летописях XVI в. и Степенной книге место Леона заступает митрополит Михаил, но это имя, взятое из византийских известий о крещении русов при императоре Василии I (867—886), было приурочено к Владимировой эпохе лишь по ошибке (см.: Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 169—170).
105
Если придерживаться датировки Иакова Мниха, которая во всех других случаях, поддающихся проверке, оказывается вернее летописной хронологии. Собственно говоря, реальной альтернативой показанию Иакова может считаться только известие Ипатьевского списка Повести временныхлет, где строительство церкви Святой Богородицы приурочено к 991—996 гг., ибо семилетний срок Лаврентьевского списка (989—996) имеет целью еще тес нее сблизить строительство Десятинной церкви с созданием иерусалимского Храма Господня, на возведение которого тоже ушло семь лет (3 Цар., 6: 37—38). Библейские аллюзии в соответствующих статьях Повести временных лет очевидны. Подобно тому как царь Соломон, возлюбив Бога и ходя по уставу Давида, отца своего, положил построить в Иерусалиме дом имени Господню, для чего взял из Тира искусного художника Хирам-Авия (3 Цар., 3: 3, 5: 5, 7: 13; 2 Пар., 2: 1—13, 3: 1), так и «Володимер, живяше в законе християнсте, помысли создати церковь Пресвятыя Богородица, и послав приведе мастеры от грек». Никоновская летопись (под 998 г.) заставляет Владимира еще и закатить всенародный недельный пир в честь освящения Десятинной церкви, поскольку и Соломон, освятив храм, устроил народу семидневный праздник (см.: Барау, Г. Библейско-агадические параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом. С. 72—73).
106
По преданию, их было 25, но современные исследователи считают это преувеличением.
107
По мнению искусствоведов, Анна приняла самое деятельное участие в создании Успенского собора в Киеве (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 110).
108
По известию церковного историка Евсевия (первая половина IV в.), Климент умер естественной смертью, но очень рано, возможно, уже в том же IV в., появилось и сказание о его мученической кончине (см.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I—II. СПб., б. г. (репринт: М., 1992). Т. II. С. 1357). В.В. Мильков ошибается, утверждая, что память Климента праздновалась на Руси не 25 ноября, как в Константинопольской и Римской церквях, а 30 января (см.: Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. С. 351). По-видимому, исследователь перепутал Климента Римского с апостолом Климентом, чья память действительно отмечается 30 января.
109
Это известие «корсунской легенды» находится в противоречии с данными Жития Кирилла, согласно которым славянский первоучитель в 867 г. увез мощи Климента в Рим. Однако, как явствует из «Реймсской глоссы» Одальрика (пробста церкви Святой Марии в Реймсе, сер. XI в.), в Риме находилась только «часть» Климентовых мощей (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 354). Там же сказано, что в Киеве хранится глава Климента, подтверждение чему встречаем в летописной статье под 1147 г. По всей видимости, можно принять допущение Е.Е. Голубинского, что и Кирилл, и Владимир взяли в Херсоне по частице мощей или же что мощи были присланы Владимиру из Рима (см.: Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. С. 223). Впрочем, по мнению Кузьмина, вероятнее другой вариант: «…мощи могли быть «поддельными», каковыми они чаще всего и являлись» (Кузьмин А.Г. «Крещение Руси»: концепции и проблемы // «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. М., 1988. С. 51). Как бы то ни было, подлинность Климентовых мощей в Десятинной церкви не подвергалась сомнению в христианском мире. В 1049 г. их с подобающим благоговением осматривал шалонский епископ Роже — член французского посольства, прибывшего в Киев за Анной Ярославной, невестой короля Генриха I.
110
Легенда приписывала создание глаголицы святому Иерониму (IV — начало V в.), автору классического перевода Ветхого Завета на латинский язык (так называемая «Вульгата»).
111
Это летописное сообщение часто истолковывается в том смысле, что при Владимире в Киеве была учреждена первая русская школа. Однако о школе в собственном смысле, то есть учебном заведении, здесь речи нет.
112
Впрочем, отменные литературные достоинства творений русских писателей первой половины XI в. наводят исследователей на мысль о достаточно длительной предшествующей традиции древнерусской письменности. «Необъяснимо и непонятно, — пишет, например, В.И. Ламанский, — как из пяти-семилетних ребят, крещенных со своими отцами и матерями, по приказу княжескому, в 990-х годах, мог через 30—40 лет явиться на Руси целый ряд известных и неизвестных деятелей христианской культуры, письменности и литературы… Верное понимание медленного роста и развития человеческой культуры заставляет на основании дошедших до нас памятников русской христианской культуры XI в. предполагать целый с лишком век предыдущего развития. Так, в одно или два поколения писцов и книжников не могли сложиться такой русско-славянский или славяно-русский язык, стиль, правописание, какие мы видим… у первых наших писателей» (Ламанский В.И. Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. Пг., 1915. С. 166).
113
Херсонский клир Десятинной церкви, несомненно, совершал службу по-славянски; никаких свидетельств обратного нет. Строительство храма продолжалось пять-шесть лет, следовательно, у херсонских священников было достаточно времени, чтобы выучиться церковнославянскому языку.
114
В отличие от Римско-католической церкви в православной литургии для совершения таинства евхаристии используется не пресный, а квасной хлеб. В ранней христианской Церкви употребление опресноков было признано ересью. Однако в VII в. этот обычай проник в Испанскую церковь, а затем, между 860 и 1048 гг., распространился по всему Западу (см.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Книга вторая. М., 1995. С. 28; Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. С. 1702). Поэтому аргументация А. Поппэ в пользу более поздней датировки послания Льва на том основа нии, что полемическое сочинение подобного рода могло появиться только после разделения Церквей в 1054 г. (см.: Поппэ А, Русские митрополии Константинопольской патриархии в XI столетии // Византийский времен ник. 1968. Т. 28. С. 101), не имеет доказательной силы.
115
С легкой руки А. Поппэ эти летописные известия интерпретируются как доказательство существования на Руси во второй половине XI в. титулярной Переяславской митрополии (наряду с Киевской) (см.: Поппэ А. Русские митрополии Константинопольской патриархии в XI столетии. С. 95 и след.; см. также: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 143— 144; Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 59 и след.). Это, конечно, недоразумение. В процитированном добавлении Никоновской летописи ясно указано, что Переяславль считался митрополией лишь по тому факту, что в нем издавна находилась резиденция киевских митрополитов.
116
Имеется в виду преемник Льва и третий по счету русский митрополит Иоанн I. В древнерусских памятниках XI—XII вв. и в Никоновской летописи он упоминается уже под 1008 г. Известна также принадлежавшая ему свинцовая печать с греческой надписью «Иоанн митрополит Росии», датируемая рубежом X—XI вв.
117
В летописных записях XII—XIII вв. сним, снем — это совещание при князе (или с участием нескольких князей).
118
Ср. с тем, что сын Владимира Ярослав свой церковный устав «сгадал с митрополитом Ларионом».
119
Грабеж языческих храмов был обычным явлением в эпоху христианизации Европы. Гельмольд, например, пишет, что при завоевании датскими войсками в 1168 г. острова Рюген разграблению подверглось святилище Святовита в Арконе: «И разрушил [датский] король святилище его со всеми предметами почитания и разграбил его богатую казну».
120
А.В. Карташев считает, что «осмыслить эти цифры можно только многочисленностью церквей домовых, входивших в состав любой купеческой и барской постройки» (Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 257). Однако во всей средневековой литературе, изобилующей «храмовой статистикой», не найдется ни одного случая, когда бы домовые церкви включались в общее число храмов, украшавших какой-либо город. Археологически показание Титмара также не подтверждается.
121
В постановлениях Саксонского капитулярия Карла Великого между прочим говорится: «Решено всеми, чтобы церкви Христовы, которые строятся теперь в Саксонии во имя истинного Бога, пользовались большим, отнюдь не меньшим почетом, чем каким пользовались прежде идольские капища». По Кишпоркскому (Христбургскому) договору, заключенному в 1249 г. между Тевтонским орденом и побежденными вождями прусских племен, последние обязались построить 22 христианских храма, под условием, «что указанные церкви они выстроят настолько внушающими по чтение и красивыми, что покажется более привлекательным совершение служб и жертв в церквах, чем в лесах».
122
Правовым источником русской десятины Павлов считал юридические постановления о десятине, существовавшие в Византии, Болгарии и Сербии (см.: Павлов А.С. «Книги законныя», содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные // Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 38. № 3. СПб., 1885.). Возражения Суворова состояли в том, что десятину на Руси «нужно понимать не как учреждение, заимствованное из византийской системы права, и не как учреждение национально-русское или общеславянское, а как институт церковный, создавшийся на почве ветхозаветного закона у европейских варваров, принявших христианство» (Суворов Н.С. Следы западно-католического церковного права в памятниках древне го русского права. Ярославль, 1888. С. 192—194). Он считал возможным говорить о римско-католическом влиянии, оказанном на русское церковное право через франко-немецкое посредничество или через Скандинавию, настаивая, впрочем, твердо только на одном: «откуда бы мы ни производили русскую десятину, результат будет один и тот же: десятина эта есть западно-католическая церковная десятина» (Суворов Н.С. К вопросу о западном влиянии на древнерусское право. Ярославль, 1892. С. 351—354).
123
«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева при надлежит Господу… И всякую десятину из крупного и мелкого скота… должно посвящать Господу» (Левит, 27: 30,32).
124
Летописный вариант, в котором вместо «града» фигурируют «грады», явным образом вторичен по отношению к житийному сообщению. Это вид но из того, что после слов «вдасть все им, еже бе взял в Корсуни…» текст «десятинной статьи» в Повести временных лет разорван большой вставкой об основании Белгорода и Переяславля, после чего повествование неуклюже возвращается к теме построения Богородичной церкви и учреждения десятины, причем о последнем повествуется уже в форме прямой речи: «Володимер видев церковь [святой Богородицы] совршену, и вшед в ню, помолися Богу… И помолившуся ему, рек сице: «даю церкви сей от именья моего и от град моих десятую часть». Ошибочность летописной замены «града» на «грады» подтверждается также отсутствием исторических свидетельств того, что Киев и другие русские города когда-либо уделяли Церкви и тем более одному только храму Святой Богородицы десятую часть своих доходов.
125
В древнерусском языке «имение» помимо прочего означало и «военная добыча» (Барау, Г. Библейско-агадические параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом. С. 80). Упоминаний о десятине от княжего имения (в смысле личного имущества, собственности князя) в памятниках домонгольской поры не встречается.
126
Ко времени составления Жития блаженного Владимира языческий подтекст княжего дара христианскому храму уже не прочитывался, и на пер вый план выступала библейская аллюзия. Для древнерусских книжников Владимир здесь уподоблялся патриарху Аврааму, который, победив эламского царя Кедорлаомера, пожертвовал Мелхиседеку, священнику Бога Все вышнего, десятую часть взятой добычи (Быт., 14: 17—20).
127
То же читаем в грамоте 1137 г. новгородского князя Святослава Ольговича, который специально оговорил, что именно такова была десятина, назначенная епископам его дедами и прадедами. Устав Владимира впоследствии неоднократно перерабатывался (древнейший его список конца XIII в. в составе новгородской Кормчей уже покрыт густым слоем редакторских правок), и в ст. 3 состав десятины значительно расширен за счет поступлений от «торга», «жита» и «скота». Но здесь отчетливо видна позднейшая по пытка духовенства привести русскую церковную десятину в соответствие с доходными статьями византийской государственной десятины XI—XIII вв. (торговые пошлины, сборы с урожая, от приплода скота и т. д.).
128
В Декрете Грациана (Verba Gratiani) от имени католического духовенства говорится: «Десятины учреждены были Богом чрез Моисея таким образом, что народ должен был вносить оные левитам [иудейским священникам] за службу, которую они посвящали Ему в Святая Святых. Левиты же брали десятину лишь от тех, за которых они молились и совершали жертвоприношения. А так как и мы служим Господу в Святая Святых и молимся и жертвуем за других, то они и должны точно так же приносить нам десятины и первенцы».
129
Эйнгард (Einhard), или Эгингард (Eginhard) (ок. 770—840), приближенный Карла Великого и выдающийся деятель так называемого «Каролингского возрождения», написавший по дробную «Жизнь Карла Великого императора», — классический образец биографического жанра Средневековья.
130
Огромный гарем Соломона, по Библии, тоже был многонационален: в число 700 жен и 300 наложниц израильского царя, кроме дочери фараона, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттеянок, входили женщины из многих других племен Передней Азии (3 Цар., 11: 1, 3).
131
См., в частности, письмо болгарского князя Бориса I к римскому папе Николаю I (конец IX в.), в котором он спрашивает римского первосвященника, как наилучшим образом следовать христианскому учению во внешней политике, внутреннем управлении, судопроизводстве и т. д. Как видно из этого послания, Борис был чрезвычайно озабочен проблемой примирения практических требований христианства с традициями милитаризованного болгарского общества. Он допытывается у папы, что надлежит делать, если весть о вражеском нападении пришла во время молитвы; следует ли государю прощать убийц, воров и прелюбодеев; как надлежит обращаться с ратниками, бежавшими с поля битвы, ослушавшимися приказа, или с теми, у кого во время смотра конь и оружие оказались не в должном порядке; как, в конце концов, карать, не применяя смертной казни (папа здесь ограничился советом смягчать правосудие милосердием). Другие вопросы касаются традиционных воинских обрядов болгар: использования лошадиного хвоста в качестве знамени, веры в предзнаменования, исполнения перед сражением ритуальных песен и танцев, ношения амулетов и оберегов, принесения клятвы на мече и т. д.
132
Чешских князей, современников Владимира, с таким именем нет. Андрихом летописец, по всей видимости, называет князя Олдриха/Олдржиха (1012—1034).
133
В христианской Западной Европе сутки делились на часы неодинаковой протяженности: утреня (около полуночи), хвалины (3 часа пополуночи), час первый (6 часов утра), час третий (9 часов), час шестой (пол день), час девятый (15 часов), вечерня (18 часов), навечерие (21 час) (см.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 167).
134
Впрочем, просуществовала она, кажется, недолго. Аль-Бекри пишет, что около 1010 г. в плен к печенегам попал мусульманин, «ученый богослов, который объяснил некоторым из них ислам, вследствие чего те приняли его. И намерения их были искренни, и стало распространяться между ними учение ислама. Остальные же, не принявшие ислама, порицали их за это, и дело кончилось войной. Бог же дал победу мусульманам, хотя их было только 12 тысяч, а неверных вдвое больше. И они [мусульмане] убивали их, и оставшиеся в живых приняли ислам. И все они теперь мусульмане, и есть у них ученые, и законоведы, и чтецы Корана». Переход печенегов в ислам подтверждает арабский писатель XII в. Абу Хамид аль-Гарнати.
135
Ср. с известиями Никоновской летописи о частом обмене посольствами с Римом: «приидоша к Володимеру послы из Рима от папы, с любовию и с честию» (991 г.); «послы Володимеровы приидоша в Киев, иже ходиша в Рим к папе» (994 г.); «приидоша послы от папы римского» (1000 г.); «посла Володимер гостей своих, аки в послех, в Рим» (1001 г.). Представляется справедливым мнение А.В. Назаренко, что эти заметки «были частью древнейшего летописания, но позднее оказались исключены антилатински настроенными печерскими летописцами» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. с. 357—358).
136
См. также у А. Поппэ: «В ответ на расхожие, но весьма далекие от историзма споры о том, как и каким прилагательным следует обозначить христианство Владимира, стоит подчеркнуть, что он был попросту христианином, принадлежавшим вселенской и православной Церкви» (Поппэ А. Князь Владимир как христианин. С. 44).
137
У Скилицы недатированное сообщение о смерти Анны помещено среди событий 1022—1025 гг.: «умерла на Руси сестра императора, а еще раньше ее муж Владимир». Но византийский историк, безусловно, ошибается. На самом деле супруги скончались в обратной очередности, о чем, помимо Повести временных лет, сообщает и Титмар. По словам последнего, Владимир был похоронен в Десятинной церкви «рядом с упомянутой своей супругой», из чего следует, что Анна была погребена там прежде своего мужа.
138
Прозвище Булгароктонос (Болгаробойца) закрепилось за Василием II в ходе многолетней войны (1001—1018) с Болгарской державой царя Самуила, которая велась с крайней жестокостью. Так, однажды император приказал ослепить разом 14 000 пленных болгар.
139
Откуда они, по-видимому, принесли на родину культ святого Николая.
140
Украинское предание связывает происхождение этих валов с деяниями легендарного коваля-змееборца. Одолев страшного змея, герой впряг его в плуг и обвел свою страну огромными бороздами.
141
Современники относили стремительность нападения печенегов к числу их неоспоримых военных преимуществ. Болгарский архиепископ Феофилакт уподоблял их набег удару молнии.
142
Сула, Трубеж, Стугна и многие другие притоки Днепра, ныне обмелевшие, в X в. были полноводными реками, пригодными для судоходства; в них найдены остатки больших судов (см.: Соловьев С.М. Сочинения. С. 267. Примеч. 17).
143
Например, в основание городских валов и стен Белгорода, Василева и Переяславля уложены необожженные кирпичи, аналогичные тем, которые были найдены около фундамента Десятинной церкви. Техника кирпичного дела, несомненно, привезена на Русь греками.
144
Некоторые из них копируют названия византийских городов: Корсунь (византийский Херсон) на реке Рось, Треполь (Триполь) при впадении Стугны в Днепр, Халеп (Алеппо) под Переяславлем; названия других образованы от греческого корня: Аксютинцы, Артополот (на Суле) (см.: Завитневич В.З. Владимир Святой // Владимирский сборник в память девятисотлетия крещения России. Киев, 1888. С. 34—35).
145
Для филологов (в отличие от многих историков) это уже давно не секрет. Своеобразие «эпического времени» древнерусских былин характеризуется ими следующим образом: «Подобно тому как существует обратная перспектива в древнерусской живописи, являющаяся не формальным приемом, а самой главной отличительной чертой мировосприятия и мировоззрения человека Древней Руси, в народном эпосе существует обратная историческая перспектива, «перевернутость» всех событий XIII—XVI веков на X век, на «эпическое время» князя Владимира» (Былины / Сост., вступ. ст., вводные тексты В.И. Калугина. М., 1991. С. 34—35). Да русскому витязю X в. и несподручно было выезжать в чисто поле на добром коне, чтобы сразиться с удалым поединщиком, — просто потому, что это был пеший воин, привыкший к передвижению в ладье. Само слово «богатырь» (от тюркского «багатур» — храбрый, доблестный) проникло в русский язык в татаро-монгольский период. А слово «застава» в значении «отряд, оставленный для охраны каких-либо путей» («пограничная застава» и т. п.) вообще появляется только в источниках XVII в. (см.: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 1999. С. 280).
146
Переяславль-Русский упомянут уже в русско-византийском договоре 944 г. Данные археологии также говорят о том, что город существовал и до Владимира в виде родового поселения (в его культурном слое найдены отложения середины X в.). Под «заложением города» Владимиром, очевидно, следует понимать строительство новых укреплений на месте прежнего городища и расширение площади застройки.
147
Ранее, в своем пересказе «переяславского» предания Повести временных лет, Никоновская летопись сохраняет анонимность русского героя. Имя Ян Усмошвец могло быть взято позднее из аналогичной западнославянской легенды.
148
Этот анахронизм указывает на то, что образ Александра (Алеши) Поповича сложился не в «печенежскую», а в «половецкую» эпоху. Далее, в статье под 1223 г., рассказывающей о битве союзного русско-половецкого войска с монголами на реке Калке, читаем о гибели Александра Поповича «со инеми 70-ю храбрых».
149
«Иконописный подлинник» — руководство для иконописцев, содержащее в себе технические, богословские и исторические сведения, необходимые для написания икон. Русские «Иконописные подлинники» сохранились в списках XVII—XVIII вв.
150
Как, например, небольшая крепость на мысу в Заречье, разгромленная на рубеже X—XI вв. Около ее воротной башни найдены две серебряные монеты Владимира, вероятно, оброненные во время грабежа кем-то из на падавших (см.: Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. С. 254—255).
151
Печенежский этнос состоял из 40 родов, объединенных в 8 колен. На правом и левом берегах Днепра кочевало по 4 печенежских колена.
152
Говоря о возвращении в 1227 г. галицко-волынских князей Даниила и Василька Романовичей, вмешавшихся в польскую междоусобицу, из-под стен Калиша, летописец замечает, что «иный бо князь не входил бе в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера Великаго, иже бе землю крестил».
153
Это положение русско-булгарского договора находит подтверждение в материалах археологии. Булгарские находки X—XI вв. в подавляющем большинстве сосредоточены в окрестностях Мурома, Старой Рязани, Пронска, Переяславля-Рязанского и в Ярославском Поволжье (см.: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. С. 41).
154
Должно быть, они становились отроками в княжей дружине.
155
В древнерусском переводе Эклоги, который мог быть осуществлен уже при Владимире, в конце X — начале XI в., глава «О разбойницех» значится как «глава 27» (в греческом оригинале — это глава 50, определяющая наказания «разбойникам и устраивающим засады»).
156
Финансовые трудности усугублялись тем, что судебная реформа со впала по времени с резким сокращением денежной эмиссии на Востоке, вследствие чего к 1015 г. поступление на Русь арабских дирхемов полностью прекратилось, вызвав острую нехватку серебра (см.: Орешников А.В. Де нежные знаки домонгольской Руси. Труды Государственного исторического музея. Вып. 6. М., 1936. С. 31; Янин B.Л. Денежно-весовые системы русского Средневековья. Домонгольский период. М., 1956. С. 184—185). Больше половины «сребреников» Владимира (II—IV типов) — это собственно медные монеты (см.: Сотникова М.Н., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. С. 5).
157
Полное название по наиболее древнему списку в Успенском сборнике XII—XIII вв.: «Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба».
158
Краковский епископ Станислав возглавил заговор польской знати, недовольной князем (с 1076 г. королем) Болеславом II Смелым (1058— 1079), и был казнен через четвертование. Католическая церковь причислила его к лику святых.
159
Люди Древней Руси, «высчитывая годы от события до события… обыкновенно включали в их число оба года, в которые совершались эти события» (Соболевский А.И. В каком году крестился св. Владимир? С. 399).
160
Тверская летопись утверждает, что Ярослав до десяти лет не мог ходить самостоятельно и неотлучно находился при матери, Рогнеде: «Сын же ее Ярослав седяще у нее, бо естеством таков от рождения». Исцеление на ступило якобы после эмоционального потрясения, испытанного Ярославом при известии о намерении матери уйти в монастырь — «и от сего словесы Ярослав вста на ногу своею, и хождаше, а прежде бо бе не ходил». Медицина, однако, не согласна с легендой: «Врожденный вывих (или подвывих) бедра не ведет к тому, что ребенок в течение нескольких лет не ходит. В соответствующих случаях ребенок начинает ходить или своевременно, или с некоторым опозданием…» (Рохлин Д.Г. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого. С. 56).
161
Счет родства по материнской линии был одним из самых живучих пережитков матриархальных представлений в Древней Руси. Только по летописи известны три знатных человека, носившие женские отчества: 1) Василько Маринич — сын княгини Марии Владимировны, внук Владимира Мономаха; 2) Олег Настасьич — сын князя Ярослава Галицкого и его любовницы Анастасии; 3) смоленский боярин Василий Настасьич (упом. под 1169 г.).
162
Мать святых братьев еще раз эпизодически возникает в Повести временных лет в предсмертной молитве Глеба (которая есть и в «Сказании»), но без упоминания ее имени и национальности: «…любимый отец мой и господин Василий, и мать, госпожа моя, и ты, брат Борис…»
163
Впрочем, «Повесть о латынех», датируемая приблизительно XII— XIV вв., в своем рассказе о крещении Владимира по-прежнему обходится без Анны: «По смерти Михаила царя [Михаила III, 842—867]… по летех мнозих приим царьство Костянтин и Василие, и в днех царства ею и абие сниде Владимир князь Роускый с всею силою своею великою дажде и до самого Царяграда с враждою идыи на царство греческое. Мановени ем Божиим и благодатию Святааго Духа внезапоу преложися от зверино го нрава на смирение божественное и бысть агня Христово вместо волка. И тако сии приим святое крещение и Евангелие Христово».
164
В древнерусских памятниках Владимир часто предстает в окружении исторических фигур второй половины IX в. Например, в церковный устав Владимира, по-видимому, уже в XI в. от лица князя была внесена запись: «восприял есмь святое крещение от грецькаго царя и от Фотия патриарха Царьградскаго». Наших древних писателей сбила с толку византийская историография, которая фактически обошла молчанием крещение Руси при Владимире, но зато сохранила многочисленные известия о крещениях «росов» во время правления императора Василия I Македонянина (867—886) и патриаршества Фотия (858—867 и 877—886) (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 102—107). Знакомясь с этими сообщениями, древнерусские книжники сочли «царя Василия», основателя Македонской династии, за Василия II, современника Владимира, и сблизили обе эпохи (см.: Карташев А.В. История Русской Церкви. С. 169—170).
165
Примечательно, что у арабского писателя конца XI — начала XII в. аль-Марвази крещение князя русов Булдмира (искаж. Владимир) помечено 300 г. хиджры (912/913 г. европейского летоисчисления), то есть временем правления Симеона.
166
Новгородский архиепископ Антоний (в миру Добрыня Ядрейкович) отметил среди цареградских святынь, осмотренных им в 1200 г., «церковь святыих мученик Бориса и Глеба» в Галате (построена ок. 1117 г.) и «икону велику святых Бориса и Глеба», стоявшую в алтаре Святой Софии, «на правой стране» и служившую образцом для иконописцев.
167
«И посади Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка Турове, а Ярослава Ростове. Умершю же старейшему Вышеславу Новегороде, посадиша [Владимир] Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Муроме, Святослава Деревех, Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани» (Повесть временных лет, под 988 г.; «Сказание о Борисе и Глебе» сажает Святополка в Пинске, «Чтение о Борисе и Глебе» преподобного Нестора отправляет Бориса во Владимир-Волынский, а Глеба оставляет «при отце», в Киеве.). Достоверность летописного сообщения крайне низка, как потому, что в нем фигурируют полулегендарные сыновья Владимира (Вышеслав, Святослав, Всеволод), так и ввиду несомненной его принадлежности к слою редакторских вставок XII в. в древнейший свод Повести временных лет. «Насколько изложенное в тексте (летописи. — С. Ц.) распределение «столов» соответствует представлениям первой четверти XII в., — пишет по этому поводу А.Л. Никитин, — показывает тот факт, что Святополку Владимировичу достался г. Туров, где в конце XI в. находился другой Святополк, сын Изяслава Ярославича. Естественно, что исследователь не имеет права использовать эти перечни имен и распределение княжений в качестве исторического источника, не доказав предварительно их достоверность или хотя бы возможность данных княжений и не ссылаясь на «припоминания» поздних списков Повести временных лет, как то делается до сих пор весьма часто» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 245). В силу такого положения вещей мы, не подвергая сомнению сам факт распределения «столов» между сыновьями Владимира, по существу можем говорить с уверенностью только о том, что Ярославу достался Новгород, а Изяславу — Полоцк.
168
Указание на второй христианский брак Владимира большинство историков видят в сообщении Титмара о «мачехе» (noverca) Ярослава, которая в 1018 г. была захвачена в Киеве Болеславом I. Мнение А. Поппэ о том, что латинское noverca может означать «теща», А.В. Назаренко считает маловероятным и отдает предпочтение традиционному чтению, «ввиду наличия у Владимира дочери, родившейся в 1015 г. или чуть ранее — при мерной сверстницы польского короля Казимира I», женившегося на ней около 1038 г., в возрасте 22 лет (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 490; Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 330). Впрочем, нельзя совершенно исключить того, что «мачехой» Яро слава Титмар мог назвать кого-то из бывших «языческих» жен Владимира.
169
Летопись отмечает, что после смерти Владимира «дружина отня» предложила Борису занять киевский стол: «Пойди, сяди Кыеве на столе отни». По всей видимости, дружинники Владимира действовали в соответствии с волей покойного князя.
170
Колобжег (Кольберг) — город в польском Поморье, на участке балтийского побережья между устьями Одера и Вислы.
171
О.М. Рапов высказал интересную догадку, что «такого известного борца с язычеством, каким был Рейнберн, могли и специально пригласить на епископскую должность в Дреговичскую землю. Руси нужны были сме лые и опытные проповедники христианства, обладавшие знанием славянских языков, а Рейнберн, проповедовавший христианство у поморских славян, должен был обладать такими знаниями. И великий русский князь, и киевский митрополит были заинтересованы в скорейшем насаждении христианства во всех принадлежащих Руси областях. В этих условиях кандидатура Рейнберна на должность епископа вряд ли могла вызвать серьезные возражения в Киеве, тем более что с женитьбой Святополка на польской княжне, казалось бы, наступил конец русско-польским разногласиям и обе держа вы вступали в период устойчивого мирного сосуществования» (Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. С. 368—369).
172
По условиям Мерзебургского мирного договора Болеслав получил от германского императора в ленное владение земли лужичан и мильчан (Лужицкую и Мейсенскую марки) и сделался таким образом его формальным вассалом.
173
Самое раннее упоминание о местном церковном почитании Владимира содержит редакция «Студийского устава» из собрания Курского краеведческого музея (конец XII — начало XIII в.), где после службы Бори су и Глебу под 24 июля есть запись: «Чтется житие князя Владимира». Это дает основание думать, что первоначально, до официального прославления, память Владимира отмечалась не в «в день преставления его» 15 июля, а 24 июля, в день памяти его сыновей-страстотерпцев, которые удостоились канонизации раньше своего отца. Возможно, здесь берет начало древняя и устойчивая иконографическая традиция изображения святого Владимира вместе со святыми Борисом и Глебом (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 435). Включение же имени Владимира в святцы под 15 июля, что можно приравнять к официальной канонизации, состоялось, вероятнее всего, ближе к середине XIII в. (см.: Малышевский И.И. Когда и где впервые установлено празднование памяти Св. Владимира 15 июля? Киев, 1882. С. 49—55; Федотов Г.П. Канонизация Святого Владимира. С. 257—259). В Новгородской I летописи под 1240 г. упоминается церковь во имя Владимира. Ипатьевская летопись называет Владимира святым под 1254 г., Софийский времен ник — под 1263 г. В 1639 г. при расчистке развалин Десятинной церкви были найдены мужские останки, объявленные киевским митрополитом Петром Могилой мощами святого Владимира. Впоследствии отдельные их части сделались достоянием Киево-Печерской лавры (череп), киевского собора Святой Софии (ручная кость) и московского Успенского собора (челюсть).
174
Возможно, имеется в виду район Углича, носившего в древности название «Угличе поле». В «Сказании о Борисе и Глебе» это «поле» находится в устье реки Тьмы (возле Твери).
175
В Новгородской I летописи: «вой славны тысящу». По В.В. Мавродину, «это совсем не тысяча славных воинов, а «нарочитые мужи», входившие в состав особой новгородской военной организации — «тысячи», причем так как древнейшим поселением Новгорода был Славенский холм, Славна, своим названием подчеркивающий этнический и социальный состав своего населения, отличного от Чудина конца, Пруссов, Не редина, Людина, то и название военной организации новгородской знати, «нарочитых мужей», новгородской «тысячи» было связано со Славною. Новгородская «тысяча» была Славянской «тысячей» и в «воях славны ты сящу» следует усматривать воинов Славенской «тысящи» (Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. С. 347).
176
40 000 воинов — эпико-символическое число, часто встречающееся в древнерусском фольклоре. В былине о Сухмане «татарская сила» насчитывает «сорок тысячей татаровей поганых». В другой былине идущий на Киев царь Кудреван ведет с собой зятя Артака и сына Коньшика:
А у Коньшика силушки было сорок тысящей,
А у Артака силы-то было сорок тысящей и т. д.
177
Из произведений житийного жанра ближе всего к летописной повести о смерти Бориса и Глеба по своему содержанию и стилю стоит «Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба». Вопрос об их взаимозависимости до сих пор остается открытым. Одни исследователи полагают, что летописная повесть о Борисе и Глебе предшествовала «Сказанию» и повлияла на него, другие придерживаются обратного мнения. По А.А. Шахматову, теснейшая текстуальная близость этих памятников объясняется тем, что оба они восходят к некоему не дошедшему до нас протографу (см.: Шахматов А.Л. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 92—94). А.Л. Никитин считает взаимосвязь текстов Повести временных лет и «Сказания» более сложной: испытав на себе влияние летописи, «Сказание» затем, в свою очередь, повлияло на Повесть временных лет в процессе переработки ряда ее статей (см.: Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 273—281).
178
Этот маршрут сам по себе исторически достоверен, вопреки сомнениям многих историков. Распространенное в литературе мнение, что Глебу удобнее было сразу взять на юг в направлении Чернигова (см., напр.: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. С. 340; Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 284), не принимает в расчет историко-географических реалий XI в. Ведь этот путь лежал через Вятичскую землю, пересечь которую считалось небезопасным делом даже во времена Владимира Мономаха. Обращаясь в своем Поучении к воспоминаниям «о труде своем, как трудился пути дея», князь первым делом с гордостью сообщает о том, как он в молодости с дружиною «к Ростову [из Чернигова] идох, сквозе вятиче». Не забудем и то, что Илью Муромца, который объявил на княжем пиру о своем приезде из Мурома в Киев через Чернигов «дорожкой прямоезжею», то есть в аккурат по рекомендации современных исследователей, Красное Солнышко посчитал бахвалом, наглым брехуном:
— Ай же мужичищо-деревенщина,
Во глазах мужик да подлыгаешься,
Во глазах мужик да насмехаешься!
179
Исследование М.Х. Алешковским древнерусских энколпионов с изображениями святых братьев показало, что соответствие между двумя парами их имен, мирской (Борис и Глеб) и церковной (Роман и Давид), было установлено далеко не сразу, причем затруднения возникали именно в связи с мирскими именами святых — их чеканили на уже готовых отливках, нередко переменяя надписи над правой и левой фигурами (см.: Алешковский М.Х. Русские глебо-борисовские энколпионы 1072—1150 годов // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 105—106).
180
По смерти Ярослава в 1054 г. старший сын его Всеволод «спрята тело отца своего, вьзложив на сани и повезоша Кыеву». Когда в 1125 г. умер Владимир Мономах, слуги и ближние князя «спрятавше тело его у святей Софье» и т. д.
181
Заметим попутно, что остается непроясненным, кто и зачем искал тело Борисова отрока. Дело, кажется, объясняется тем, что здесь молчаливо подразумевается другое церковное предание. Оно гласит, что в услужении у Бориса находились также два брата Георгия Угрина, один из которых, по имени Ефрем, жил в Ростове. Извещенный об убийстве Бориса и Георгия, он отправился на берег реки Альты, где совершилось преступление, и стал искать тело брата, но нашел только отрубленную голову его. Взяв ее, Ефрем удалился далеко на север, принял иночество и поселился на реке Тверце, около селения Новый торг (будущий Торжок). Со временем, когда были открыты мощи святых князей Бориса и Глеба, он создал во имя их церковь и при ней монастырь, в котором подвизался до глубокой старости. Голову горячо любимого брата Ефрем хранил у себя и, умирая, завещал положить ее в свою могилу. Это предание возникло не раньше первой половины XII в. (Новый торг впервые упоминается в летописи под 1139 г.), что может служить косвенным указанием на время редакторской правки Повести временных лет в духе «борисоглебской» житийной традиции. Судьбу второго брата Георгия прослеживает легендарное Житие Моисея Угрина, известное по записям Киево-Печерского патерика, относящимся к началу XIII в. Здесь уже утверждается, что убийцы Бориса перебили всех его отроков, за исключением Моисея, который, чудом избежав гибели, нашел убежище в Киеве у Предславы. Дальше читаем переделку библейской истории Иосифа Прекрасного. В 1018 г. Моисей был уведен в плен поляками и попал в дом к красивой и знатной женщине. Удивительная красота пленника возбудила ее любовь, но тот решительно отверг и ласки, и угрозы, так как дал обет посвятить свою жизнь Богу. Тогда взбешенная полька велела оскопить упрямого раба. В 1030 г. победоносный поход Ярослава в Польшу принес изувеченному пленнику освобождение. Вернувшись на Русь, Моисей постригся в Киево-Печерский монастырь и прославился святой жизнью.
182
Изяслав Ярославич был женат первым и единственным браком на Гертруде, сестре польского короля Казимира I. Плодом этого союза был сын по имени Ярополк (в крещении Петр). Сохранился личный молитвен ник Гертруды, в котором она постоянно поминает Ярополка-Петра, называя его «единственным своим сыном». Отсюда следует, что Святополк был рожден Изяславом в нецерковном браке от какой-то наложницы (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 366; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 566—567).
183
Особенно хорошо это видно на примере «торчинов», орудующих ножами над Глебом и Васильком. Торки на службе у русских князей стали появляться лишь в конце XI в. Поэтому, если для Святополка Изяславича нет ничего необычного в том, чтобы иметь «овчюха» из торков, то Глебов «торчин» — явный анахронизм, объясняемый искусственным переносом этнических реалий последних десятилетий XI в. в начало этого столетия.
184
Не исключено также, что фигура Вартилава совмещает в себе образы двух русских князей — Брячислава и Мстислава (см.: Древнерусские города в древнескандинавской письменности. С. ИЗ. Примеч. 7).
185
А.И. Лященко в связи с этим подчеркивал, что «русская летопись при описании этих столкновений (Ярослава со Святополком и Болеславом в 1018 г. — С. Ц.) имя Болеслава ставит первым», а «в лагере Ярослава говорится прежде всего о борьбе с Болеславом» (Лященко А.И. Eymun dar Saga и русские летописи. С. 1072).
186
Были попытки доказать правдивость эпизода «Пряди» с отрубленной головой Бурицлава при помощи иллюстративного материала древнерусских памятников. На одной миниатюре в так называемой Радзивилловской летописи убийцы Бориса передают Святополку меч убитого князя и какой-то круглый предмет, — как предположил М.Х. Алешковский, голову мученика. Однако объяснять летописный рисунок через содержание скандинавского источника, о котором древнерусский художник не имел ни малейшего понятия, недопустимо хотя бы по методологическим соображениям.
187
Правдоподобность которого, кстати, вызывает сомнения хотя бы потому, что летописец заставляет Святополка, стоявшего с войском на восточном берегу Днепра, удирать на запад, то есть в сторону победившего врага.
188
Ср. с тем, что, по известию «Сказания о Борисе и Глебе», Ярослав оставил наследниками своей власти не всех пятерых своих сыновей, а только троих старших. «Это — известная норма родовых отношений, ставшая потом одной из основ местничества, — пишет в этой связи В.О. Ключевский. — По этой норме в сложной семье, состоящей из братьев с их семействами, властное поколение состоит только из трех старших братьев, а остальные, младшие братья отодвигаются во второе, подвластное поколение, приравниваются к племянникам…» (Ключевский В.О. Сочинения. Т. I. С. 182).
189
Сообщение «Сказания о Борисе и Глебе» и летописной повести о братьях-мучениках о том, что тело Глеба спустя много лет было найдено на Смядыне благодаря чудесному свечению над местом, где лежал святой, можно не принимать во внимание, так как данный эпизод заимствован из Жития святого первомученика Стефана: «Ночью над мо щами святого являлся свет, и сильное благоухание исходило от ковчега (раки с мощами. — С. Ц.) и в воздухе слышалось ангельское пение» (Четьиминеи под 2 августа) (Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьихминей св. Димитрия Ростовского. Книга первая. Сентябрь. Изд. 2-е. М., 1903. С. 125. Примеч. 1).
190
А.Л. Никитин с сожалением констатирует, что «этот корпус древ нерусских монет, находившийся в центре внимания главным образом нумизматов, практически не привлекался в качестве исторического источника для уточнения тех или других событий русской истории» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 299). А между тем археологические свидетельства подобного рода представляют собой «документы более авторитетные, чем исторические повествования», в силу чего имен но эти находки в конце концов «оказываются наиболее точными и нелицеприятными корректорами выводов исследователей, причем с ними они обязаны считаться больше, чем с мнениями своих предшественников» (Там же. С. 297).
191
На киевское происхождение этих монет косвенно указывает и география их находок — все они входили в состав кладов и погребений, сосредоточенных на левобережье Днепра, в районе между Нежином и Переяславлем (см.: Равдина Т.В. Погребения X—XI вв. с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М., 1988. С. 85).
192
«С именем «Святополк» известна 51 монета, отчеканенная 28 парами штемпелей, причем из 35 пробированных монет только 4 экземпляра могут считаться серебряными, 7 — биллоновыми, а 24 — медными. Изображения обеих сторон повторяют принцип их размещения на «сребрениках» Владимира II—IV типов, только вместо «трезубца» на реверсе изображен «двузубец», правый «зуб» которого завершается крестом, а над самим «двузубцем» помещен еще один равноконечный крестик, состоящий из четырех соединенных кружков. Последняя деталь имеет весьма существенное значение, поскольку 5 монет с именем «Петрос», не являющиеся серебряными и, будучи отчеканены 5 парами штемпелей, при значительной схожести княжеского знака имеют над ним вместо указанного крестика перевернутую литеру «р». Наконец, 12 монет с именем «Петор» из меди и низкосортного биллонового сплава при том же княжеском знаке, но с измененным крестом на его правом «зубце», изготовленные с помощью 8 пар штемпелей, несут в центральном поле изображение полумесяца, лежащего рогами вверх» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 298).
193
Современная наука отвергает сообщение «Пряди об Эймунде» о заключенном после смерти Бурицлава договоре между Ярицлейвом и Вартилавом/Брячиславом, по которому последний получил во владение Киев («Кэнугард») (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 517—518). Скорее всего, этот эпизод саги воспроизводит в искаженном виде события 1026 г., когда Ярослав и Мстислав договорились между собой о разделе Русской земли (см.: Древнерусские города в древнескандинавской письменности. С. 113. Примеч. 7).
194
Обязательность этого дипломатического шага для каждого нового правителя Восточной Европы между прочим подтверждает пример Болеслава I, который, овладев в 1018 г. Киевом, сразу же снесся через послов с Василием II.
195
Участие в этом походе тысячи (по другим известиям, шести тысяч) «варягов», нанятых взамен перебитых «на дворе поромони», — чистый миф. Далее летописец рассказывает, что, одержав победу при Любече, Ярослав щедро наградил своих воинов: старостам и горожанам дал по 10 гривен, сме дам — по гривне. «Варягов» в этом списке победителей нет.
196
Близкого взгляда придерживался В.Д. Королюк, по мнению которого битвы у Любеча либо не было совсем, либо в ней столкнулись не Ярослав и Святополк, а Ярослав и один из других наследников Владимира (см.: Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь. С. 236—239).
197
В связи с этим сообщением Титмара обсуждалась возможность иного прочтения летописного известия о пожаре 1017 г. В ряде летописных списков (Лаврентьевском, Троицком и др.) оно читается как «…и погоре церкви», то есть глагол «погореть» стоит не во множественном числе — «погореша», а в единственном. Высказывалось мнение, что в общем протографе этой группы летописей могло сообщаться о пожаре только одного киевского храма: «и погоре церкы [церковь]». А поскольку эти слова «без дополнительного указания, какая именно церковь сгорела, не имеют смысла, потому что в Киеве того времени была конечно же не одна церковь», то «речь, надо думать, идет о пожаре какого-то большого храма» — собора Святой Софии, как сказано у Титмара (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 471—472). Однако здесь не учитывается другое место из хроники Титмара, где говорится, что огонь охватил тогда значительную часть города: «на город Киев, чрезвычайно укрепленный, по наущению Болеславову часто нападали враждебные печенеги, по страдал он и от сильного пожара». Попутно замечу, что разделительный союз «и» не позволяет связать пожар 1017 г. с нападением печенегов, на чем нередко настаивают исследователи (см.: Там же. С. 472—475). Из конструкции фразы ясно, что Титмар отличает разрушения, причиненные Киеву набегами печенегов, от разрушений, вызванных пожаром 1017 г.
198
Быстрота, с которой была восстановлена киевская София, говорит за то, что это была деревянная постройка.
199
В исторической литературе довольно прочно закрепился неверный перевод этой фразы Титмара, «которая почему-то понимается так, будто Ярослав осаждал какой-то город, но не сумел овладеть им» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 469—470).
200
Обыкновенно историки идут еще дальше, полагая, что Берестье было «западным форпостом» Турово-Пинского княжества, вследствие чего «бежавшему в Польшу после поражения у Любеча Святополку естественно было укрыться именно в Берестье» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 470; Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 326). Непонятно, каким образом могло сложиться это, почти повсеместное, убеждение в принадлежности Берестья к турово-пинским землям, если все летописные известия об этом городе начиная с 1099 г. свидетельствуют, что он находился во владении владимиро-волынских князей.
201
По датировке Софийской I и Новгородской IV летописей. Хронология Повести временных лет, где этот эпизод перемещен в статью под 1036/37 г., вызывает у исследователей справедливую критику (см.: Алешковский М.Х. Первая редакция «Повести временных лет» // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969. С. 29—30; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 473—474).
202
В других средневековых источниках ее также называют Маргарета. По-видимому, она носила двойное имя: Эстрид-Маргарета (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 476).
203
Об отце Болеслава, Мешко I, известно, что он мог выставить в поле три тысячи «панцирных воинов».
204
Титмар не уточняет, была ли это военная помощь германского императора или Болеславу оказал поддержку его новый родственник — мейсенский маркграф.
205
Вероятно, Титмар имеет в виду один из городов, входивших в состав волости, полученной Святополком от Владимира, но какой именно, сказать невозможно. Неприемлемо предположение А.В. Назаренко, что Титмар допустил здесь анахронизм, продублировав по ошибке свое собственное сообщение о захвате Ярославом некоего города во время осенней кампании 1017 г. (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 462—469). Спору нет, что Титмар неоднократно прерывал работу над своей хроникой, дожидаясь, пока «летучая молва не доставит чего-либо нового для моего пера», и часто возвращался к уже описанным событиям, порой пересказывая их в другом ключе. Но в данном случае совершенно ясно, что он ведет речь о двух различных операциях Ярослава, поскольку, согласно его же собственному указанию, первый захваченный Ярославом город находился во владениях Болеслава, тогда как второй принадлежал Святополку.
206
Возможен вариант: «милосердие которого» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 328).
207
Польские летописцы XII—XIII вв. разукрасили вступление Болеслава в Киев фантастическими подробностями. В «Хронике Анонима Галла» Болеслав в знак победы ударяет «обнаженным мечом в Золотые ворота» (которые в 1018 г. еще не были построены). У Винцентия Кадлубека («Польская хроника») пленного Ярослава «вместе с первейшими из знати, словно свору собак, на веревке» подводят к Болеславу и т. д.
208
А.В. Назаренко держится другого мнения: «Имени митрополита, встречавшего победителей, въезжавших в город по древнерусскому обычаю в праздничный день (в данном случае — в канун праздника Успения Божией Матери 15 августа), Титмар не называет, но им был, должно быть, Иоанн I, упоминаемый на киевской кафедре в первые годы правления Яро слава древнерусскими памятниками Борисо-Глебского цикла» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 330). Но Иоанн I, как явствует из надписи на его личной печати, носил титул не «архиепископа Киева», а «митрополита Росии». К тому же в конце X — первой половине XI в. резиденция русских митрополитов находилась в Переяславле.
209
Нелишне отметить, что данное сообщение Титмара полностью со впадает с картиной вокняжения Святополка в 1015 г., рисуемой летописной повестью о Борисе и Глебе («Святополк же седе Кыеве по отци своем, и созва кыяны, и нача даяти им именье»), которая, таким образом, может считаться достоверной только в том случае, если датировать ее августом 1018 г., а не второй половиной июля 1015 г.
210
В летописи уход поляков представлен чуть ли не бегством. Болеслав будто бы развел поляков на постой по русским городам, где они были перебиты по приказу Святополка: «И рече Болеслав: «Разведете дружину мою по городом на покорм», и бысть тако… Болеслав же бе Кыеве седя, оканьный же Святополк рече: «Елико же [сколько ни есть] ляхов по городом, избивайте их». И избита ляхы. Болеслав же побеже ис Кыева…» (под 1018 г.). По А.А. Шахматову, эти строки являются литературной вставкой, сделан ной «лицом, пережившим события 1069 г.». (Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 440—441), когда великий князь Изяслав Ярославич вернул себе киевский стол при помощи польского короля Болеслава II: «поиде [Изяслав] с Болеславом, мало ляхов поим… И седе Изяслав на столе своем… И распуща ляхы на покорм, и избиваху [русские] ляхы отай [тайно]; и возвратися в Ляхы Болеслав, в землю свою». В самом деле, достоверность летописной статьи под 1018 г. сомнительна не только с точки зрения военно-политической целесообразности подобного поведения Святополка (пока был жив Ярослав, Святополк не мог позволить себе ссориться с тестем), но также ввиду показания Титмара о том, что Болеслав, возведя на престол «своего зятя, долго пребывавшего в изгнании, радостный вернулся на родину». Будучи непримиримым врагом польского князя, Титмар, конечно, не преминул бы отметить его унижение. Кстати, сделанная рукой немецкого хрониста запись о «радостном возвращении» Болеслава из Киева позволяет уверенно датировать уход поляков сентябрем — октябрем 1018 г., поскольку в начале декабря этого года Титмар скончался. Текстологические соображения А.В. Назаренко в пользу того, что это известие Титмара может относиться к некоему неизвестному нам походу Бо леслава на Русь в 1017 г. (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 466—469; Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 270—274), несостоятельны, так как слишком явно противоречат фактам: русско-польско-немецкие источники едины в том, что восшествие Святополка на киевский стол при помощи поляков имело место только однажды — летом 1018 г.
211
Вскоре после смерти Владимира Мономаха в 1125 г. его сын Ярополк вступил в сражение с превосходящими силами половцев — «и поможе ему Бог и отца его молитвы». Внук Мономаха, Андрей Боголюбский, также побеждал врагов «пособием Божием и силою хрестною» вкупе с «молитвою деда своего» и т. д.
212
Вероятно, это связано с тем, что пятница по церковному календарю, как седмичный (недельный) день, посвящена Кресту — символу победы. В пятничном кондаке (песнопении) говорится: «возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира [то есть Крест], непобедимую победу».
213
Азазиэль (Азазел) — так древние евреи именовали «козла отпущения», которого в так называемый «день очищения» изгоняли в пустыню, «чтобы он понес на себе их беззакония в землю непроходимую» (Лев., 16: 6—10). В некоторых древнехристианских сектах этим именем назывался сатана.
214
Ряд исследователей, в том числе и И.Н. Данилевский, считают выражение «межи чяхы и ляхы» фразеологизмом, означающим «бог весть где». Однако А.Л. Никитин указывает на возможность того, что летописец использовал здесь «сюжет, связанный с еще одним Святополком, на этот раз — Святополком моравским, к слову сказать, хорошо известным русским книжникам, поскольку он несколько раз упомянут Повестью временных лет в новелле о славянской грамоте… Этот князь, неожиданно для своих сподвижников, бежал с поля битвы и скрылся «межи чяхы и ляхы» в обители пустынников-еремитов, о чем сообщал своим читателям в своей хронике Козьма Пражский» (Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 283).
215
Об этом пишет Адам Бременский, почерпнувший свои сведения о скандинавских делах от датского короля Свена Эстридсена (1047 — 1075/1076), который, по словам хрониста, «держал в памяти всю историю варваров, будто записанную».
216
Эта дата приведена в «Исландских королевских анналах», данные которых покоятся на относительной хронологии «Саги об Олаве Святом» («Хеймскрингла»). По Е.А. Рыдзевской, последний источник позволяет говорить также о 1020 г. (см.: Рыдзевская Е.Л. Ярослав Мудрый в древнесеверной литературе // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. Вып. 7. М., 1940. С. 67). Впрочем, и тогда в расчет могут приниматься только два первых зимних месяца этого года, поскольку в Повести временных лет под 1020 г. отмечено рождение Владимира Ярославича — первого ребенка Ярослава и Ингигерд.
217
С.М. Соловьев не исключал того, что скандинавское известие перекликается с туманным сообщением летописи под 1032 г. о некоем Улебе, который водил рать «из Новагорода» на чудь. По мнению историка, им мог быть Ульв, сын Рагнвальда (см.: Соловьев С.М. Сочинения. С. 206). Но отождествлению этих двух лиц мешают по крайней мере два обстоятельства: 1) Улеб отправляется в поход не из Ладоги, а из Новгорода и 2) сага «Красивая кожа» утверждает, что Рагнвальду наследовал не Ульв, а Эйлив: «И когда умер ярл Рагнвальд… то ярлство [Ладожскую волость] взял Эйлив». Саги вообще охотно сажают своих соотечественников ярлами и конунгами в русских городах. Так, «Прядь об Эймунде» без тени смущения повествует о «конунгстве» Эймунда в Полоцке (где до 1044 г. благополучно княжил Брячислав Изяславич), а «когда Эймунд конунг заболел, он отдал свое княжество Рагнару, побратиму своему, потому что ему больше всего хотелось, чтобы он им пользовался». Принимать пустую похвальбу и откровенное баснословие за исторические сведения, конечно, недопустимо.
218
Историческим картам этот гидроним неизвестен. В Никоновской летописи вместо Судомири значится река Судома, протекающая в Псковской области (см.: Соловьев С.М. Сочинения. С. 312. Примеч. 311).
219
В этой связи представляет интерес интерпретация С.В. Белецким княжеского знака на штукатурке киевского собора Святой Софии (граффито № 75 по корпусу С.А. Высоцкого) как знака Брячислава Изяславича (см.: Белецкий С.В. К вопросу о времени строительства Софийского собора в Киеве // Церковная археология. Вып. 2. СПб., 1995. С. 92—94; Он же. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X—XI вв.) //У источника: Сб. статей в честь чл.-корр. РАН СМ. Каштанова. М., 1997. С. 120).
220
Но не «в то же лето» — ясное свидетельство, что вся дальнейшая повесть о поединке Мстислава с Редедей, не имевшая собственной хронологии, произвольно присоединена к датированной статье под 1022 г., которая в первоначальном виде исчерпывалась краткой заметкой о походе Ярослава «к Берестию».
221
В XVI—XVII вв. отдельные боярские фамилии ссылались на эти сведения летописи в своих родословных. По преданию, два сына Редеди, уведенные в Тмуторокань, были крещены Мстиславом под именами Юрия и Романа, причем последний будто бы женился на дочери Мстислава. К ним возводили себя боярские роды Белеутовых, Сорокоумовых, Глебовых, Симских, Добрый — ских и др. (см.: Дзамихов К.Ф. Адыги и Россия. М., 2000. С. 43).
222
В частности, драматическая разговорная форма связывает его, по наблюдениям Ф.И. Буслаева, с былинными сказаниями о единоборстве Ильи Муромца с Жидовином-Нахвальщиком, Дюка Степановича с Ширком-Великаном и т. д. Русские богатыри, изнемогая в борьбе или опасаясь вражьей силы, просят о заступничестве Богоматерь и побеждают (см.: Буслаев Ф.И. Русская хрестоматия для средне-учебных заведений. М., 1878. С. 43).
223
Некоторые варианты предания сохранили его имя — Мстислау (см.: Дзамихов К.Ф. Ранние летописные сюжеты о касогах и фольклор // Куль тура и быт адыгов (этнографические исследования). Вып. VIII. Майкоп, 1991. С. 307).
224
Повесть временных лет датирует выступление Мстислава 1023 г., а рассказ об основных событиях переносит на 1024 г. Но военная история того времени не знает походов, которые продолжались бы два года подряд. Поэтому вероятнее, что поход Мстислава на Киев имел место в 1024 г.
225
В более позднее время их называли «большухи гобиньных [богатых] домов» (Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. С. 362).
226
От сканд. Hakun, Hakon, Haagen — «одноглазый», доказательством чему будто бы служит замечание Повести временных лет: «и бе Якун слеп». Но одноглазого человека по-русски называют не слепым, а кривым. К тому же, как показал еще Н.П. Ламбин, слепота Якуна — не более чем филологическое недоразумение, и данную летописную фразу безусловно следует читать: «и бе Якун сь леп», то есть «и был Якун сей хорош собой» (физическая красота Якуна далее еще больше оттенена сообщением о его великолепном златотканом плаще: «и луда бе у него золотом истькана»). Впрочем, «лепший» в иных случаях означало также «знатный», вследствие чего поздние летописные списки превращают Якуна в «варяжского князя» (Ламбин Н.П. О слепоте Якуна и его златотканой луде // Журнал Министерства народного просвещения. 1858. № 5. С. 33—76).
227
Специалисты датируют их выпуск 20-ми гг. XI в. Кроме того, все «малые сребреники» Ярослава найдены за пределами Русской земли, в Балтийском регионе.
228
Это сочетание темноты и дождя вызвало у Никоновского летописца (москвича XVI в.) воспоминание об осенней поре в средней полосе России, в результате чего он приписал: «и бяше осень». Однако в Черниговской области ночные грозы наиболее часты в июне и июле (см.: Шляков Н.В. Боян. С. 486).
229
В Русской земле было два Городца — один подле Киева, другой в 26 верстах от Чернигова. По мнению С.М. Соловьева, «вернее, что мир был заключен в Киевском» (Соловьев С.М. Сочинения. С. 312. Примеч. 310).
230
Условия Городецкого мира, распополамившего Русь на две территориально примерно равные части, дают повод вернуться к вопросу о происхождении Мстислава. Очень похоже, что раздел был осуществлен не между старшим и младшим братьями, а между двумя представителями соперничавших линий великокняжеского рода — сыновьями великих князей Владимира и Сфенга.
