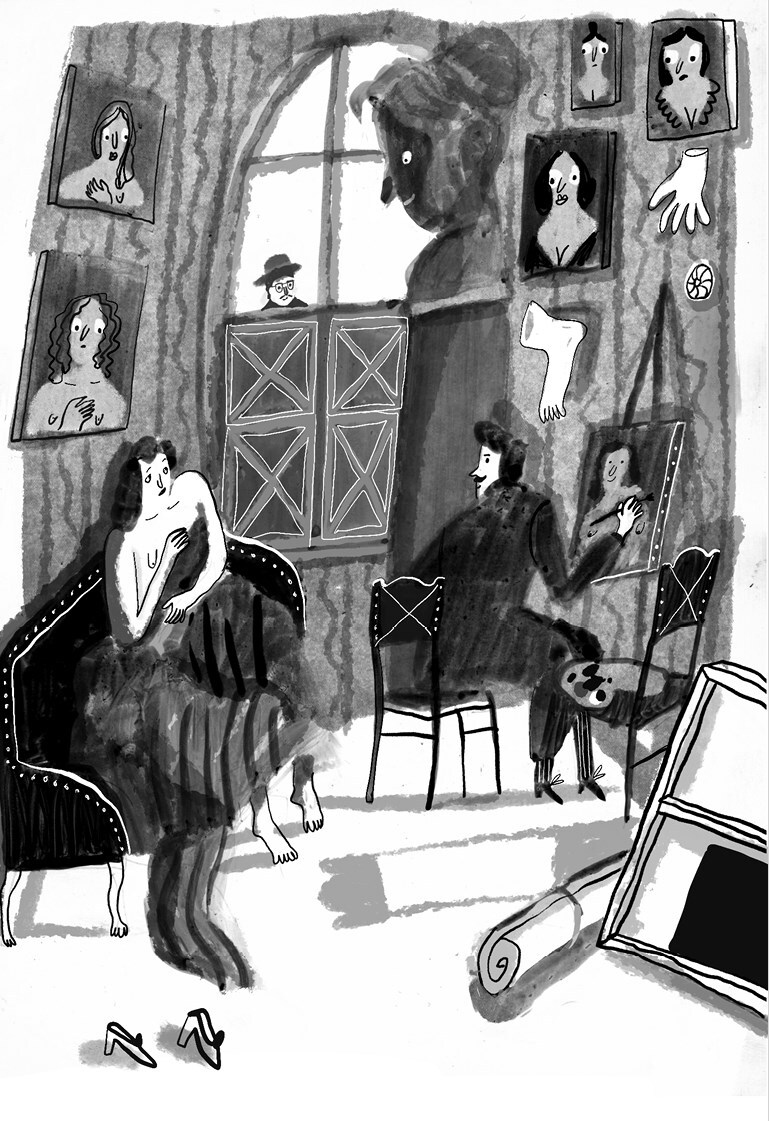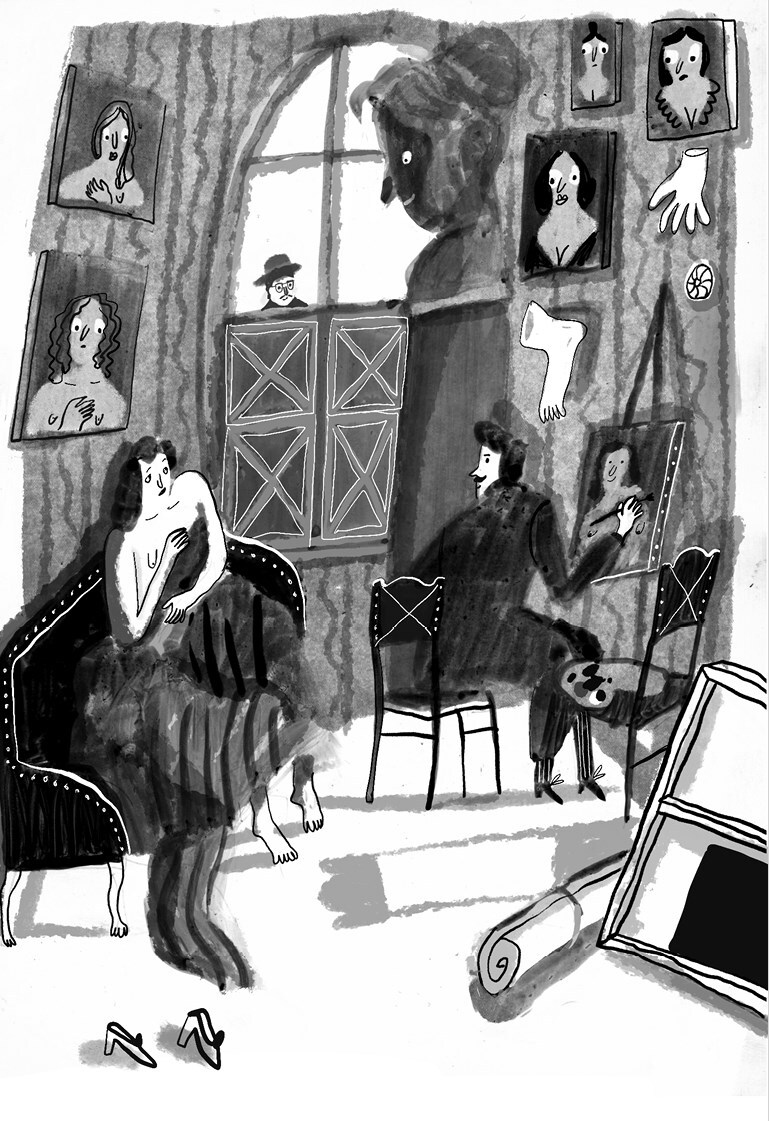Надо видеть при этом циничный, но объективный факт, что всякий военный конфликт и в эту эпоху, и в последующие несет с собой не только столкновение, но и взаимодействие культур. Так, в параллель к нашим постоянным войнам с Польшей, тогдашнее «западничество» равносильно полонофильству. Польский, которому учат боярских и дворянских детей первые частные учителя с «близкого запада», предвосхищает культурную роль французского и играет при московском дворе XVII века наряду с латынью посредническую функцию в культурных контактах. «Латинствующие» литераторы с польско-украинским культурным багажом закладывают начало переосмыслению русского понятия «просвещение» в значении, которое оно приобретает в следующем XVIII веке.
Просвещение. Это слово имеет ключевое значение не только потому, что дало название эпохе. Перемены его смысла типологически важны для истории образованного человека. В допетровском языке под человеком «просвещенным» понимается праведный, святой, примеры чему во множестве встречаются в житиях: «Растущу же ему (Кириллу Белозерскому. – Д. С.) во всяком благоговейнстве и чистоте и просвещенном разуме». В житийной литературе под просветителями славян Мефодием и Кириллом разумеются миссионеры, распространяющие с верой и книжное учение о ней.
Но свет меняется вместе со сценой. 1714 год. Петр I, поплевав на руки, спускает в новооснованном Петербурге на воду им же заложенный корабль «Шлиссельбург». И, быв в крайнем удовольствии, опершись на топор, глаголет к собравшимся тако: «Товарищи! (Да, именно таково начало записанной речи.) Думали ль вы… чаяли ль вы, что мы «увидим себя в толиком почитании?» Ведь и после принятия христианства «мы остались в прежней тьме», понеже «науки в отечество наше проникнуть воспрепятствованы нерадением наших предков». Лишь теперь «отверзлись им очи» и «науки преселятся и к нам». После чего «старые русские», как именует московских бояр описавший этот эпизод ганноверский посланник, выразили свое согласие («Je-je prawda») и «снова ухватились за то, что составляет высшее их благо, то есть за кубки с водкою». Так переопределен источник: свет, который в тебе, есть тьма. «Восемнадцатый век, – замечал Осип Мандельштам, – отвергнув источник света, им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему».
Во Франции, Англии и Германии проблема решалась тем, что термины, обозначавшие новую эпоху (Lumières, Aufklärung, Enlightenment), появились вместе с веком Просвещения, а средневековое illuminatio осталось только в языке Церкви и мистиков («иллюминаты»). У нас же (и в южной Европе, как в итальянском l’ illuminismo) такого различия нет. В результате смыслы смешиваются и сталкиваются. Классический пример – диалог о просвещении и свободе между митрополитом Платоном (Левшиным) и императрицей Екатериной II, которая, выбирая наставника для наследника, будущего Павла I, полюбопытствовала у Платона, «„почему он избрал монашескую жизнь?“ [Платон] ответствовал, что по особой любви к просвещению. На сие Императрица: „Да разве нельзя в мирской жизни умножать просвещение?“ Льзя, ответствовал он, но не столь удобно, имея жену и детей, и разные мирския суеты, сколько в монашеской жизни, где он по всему свободен».
В России, вкладывавшей ранее в одни и те же слова одно значение, происходит малое вавилонское разделение языков. Поэт Константин Батюшков в 1816 году: «В каждом классе, в каждом звании [в России] отличная тарабарщина: никто сразу не поймет другого». Его вывод: «дóлжно организовать язык общежития». Что и происходит со становлением русского литературного и «метафизического» языка. Монополия на толкование абстрактных понятий принадлежит теперь пишущей и философствующей интеллигенции, владеющей языковым стандартом, тогда как церковнославянский с его наследием становится несалонным. Зато и после 1917 года ненависть восставших масс обрушилась на этот «интеллигентный» язык, которому противопоставлена большевистская грубость и начальственная матерщина.
В остальном описанное рисует общеевропейские процессы. С началом Нового времени и становлением общества языковой хаос фиксируется повсеместно: Джон Локк жалуется в конце XVII века на «словесные злоупотребления» (abuse of words) по вине «ученых людей», которые меняют и изобретают значения слов; в XVIII веке эти жалобы перекидываются на Францию, потом на немецкие земли. С середины XVIII века в европейских языках происходит тектонический сдвиг смыслов, который мэтр немецкой истории понятий Райнхарт Козеллек окрестил Sattelzeit – временем водораздела, перелома, порога. Именно в этот период отвлеченные понятия из достояния «аристократии, юристов и ученых» становятся языком образованного общества. Мозес (Моисей) Мендельсон, немецкий философ и духовный отец еврейского просвещения, Хаскалы, в 1784 году замечал: «Слова просвещение, культура, образование – вновь прибывшие в нашем (немецком. – Д. С.) языке. Они пока что из языка книжного. Толпа (der gemeine Haufen) их не понимает». Новый язык закрепляется в толковых и энциклопедических словарях. В нем для себя и для публики пытаются разобраться и сами представители просвещенного слоя, как в «Опытах российского сословника» (1783) Д. И. Фонвизин или в «Некоторых выражениях, расположенных по алфавиту» (1791) Францишек Салери Езерский в Польше.
У интеллигенции второй половины XIX века в России «просвещенный человек» – «тот, кто через научные познания развил в себе высшие понятия, которые определяют человеческую жизнь в ее отношениях к природе и обществу». Туманность и произвольность этих «высших понятий» позволяет, однако, делать с просвещением все, что заблагорассудится. «В стремлении „к свету“, – резюмирует Владимир Набоков уже в берлинской эмиграции 1930‐х, – таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот „свет“ горит в окне тюремного надзирателя <…> Странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника». Символично, что историю светского концепта «просвещения» в России венчают слова-уродцы «Наркомпрос» и «просвещенец». «Улица Красных Просвещенцев», есть, между прочим, и поныне в городе Пскове: жаль, что не «Красных Просвещенок», ибо существовал и феминитив. Религиозное значение термина помечается как «устар.». Однако со временем из употребления парадоксальным образом исчезает как раз дискредитированное светское понятие, и слово возвращается, исключая исторический термин, к своему допетровскому сакральному употреблению.
Автор/творчество. C рубежа XVII–XVIII веков интеллектуальный труд в России начинает обретать автора. Вслед за Западной Европой формируется представление об авторе и авторском праве. Знание начинает дорогу к утверждению себя капиталом, обеспечивающим автономное существование творческой личности. Развитость интеллектуального рынка и правовой культуры и тут выводит вперед Англию: уже в начале XVIII века образцом независимой, в том числе в финансовом отношении, жизни служат поэт Александр Поуп, а затем Сэмюэл Джонсон.