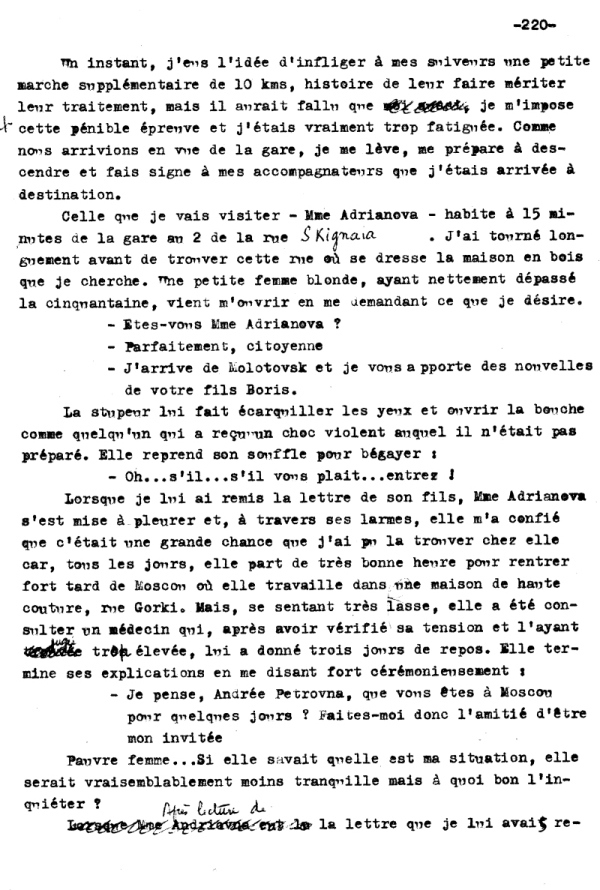– Смотря куда именно… Вы едете до Бирюлево-Товарной или до Бирюлево-Пассажирской?
– Откуда я знаю… А какое расстояние между двумя станциями?
– Почти десять километров.
На какой-то миг мне пришла в голову идея устроить дополнительную десятикилометровую прогулку моим топтунам, чтобы показать им, что они не зря получают свою зарплату, но тогда помучиться пришлось бы и мне самой, а я уже не на шутку устала. Как только показалось здание станции, я встала и приготовилась выходить, сделав своим попутчикам знак, что я прибыла к месту назначения.
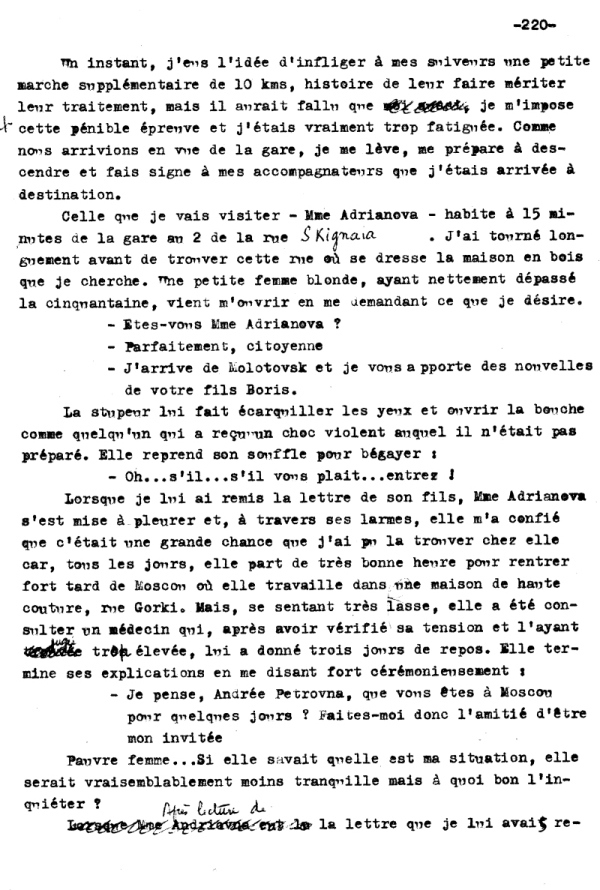
Страница рукописи книги А. Сенторенс, глава 13
Женщина по фамилии Адрианова, которую я собиралась навестить, жила в пятнадцати минутах от станции, на улице Нижней, дом 2. Я долго кружила, прежде чем найти ее дом. Дверь открыла невысокая блондинка лет пятидесяти и спросила, что мне нужно.
– Ваша фамилия Адрианова?
– Совершенно верно, гражданка.
– Я приехала из Молотовска, у меня для вас новости о вашем сыне Борисе.
Она вытаращила на меня глаза и открыла рот, как будто получила внезапный удар под дых. Переведя дыхание, женщина, запинаясь, произнесла:
– Да… пожалуйста… заходите!
Когда я протянула ей письмо от ее сына, Адрианова начала плакать и между рыданиями сказала, что мне сильно повезло, что я застала ее дома: обычно она с раннего утра до позднего вечера работает в Доме моделей в Москве, на улице Горького. Но в тот день, почувствовав ужасное переутомление, она пошла на прием к врачу. Тот измерил ей давление, оно оказалось повышенным, и ей дали три дня отдыха. Закончив свои объяснения, Адрианова довольно церемонно обратилась ко мне:
– Андре Петровна, вы в Москве на несколько дней? Сделайте милость, будьте моей гостьей!
Несчастная женщина… Если бы она знала, в каком я положении, то, вероятно, была бы менее спокойна. Стоило ли обременять ее своим присутствием?
Прочитав письмо, Адрианова засыпала меня вопросами о сыне. Я отвечала так, как он меня просил: делала все, чтобы мать не догадалась, что Борис осужден по политической статье, и старалась не обнадеживать ее насчет его скорого возвращения домой. Адрианова рассказала, что овдовела двадцать лет назад и с большим трудом вырастила двоих сыновей и дочь. Старший сын в тот момент еще служил в армии, а дочь Надя работала закройщицей в одном из московских ателье. Мать знала только, что Бориса арестовали в 1946 году, но причины ареста были ей не известны. Я солгала, заверив ее, что сын сам до сих пор не знает, почему находится в тюрьме, должно быть, он просто попался в общей массе и, очевидно, его скоро освободят. Бедняжке так хотелось мне верить, что она не сомневалась ни в одном моем слове. Правда же была такова: Борис нес караул с одним из своих сослуживцев, и молодые ребята стали обсуждать решение Сталина вновь разрешить русским молиться. Борис заметил, что его соотечественникам будет трудно это делать, потому что Сталин снес большинство церквей в 1930 году. Его товарищ воспринял такой ответ очень болезненно, дискуссия переросла в ссору, а затем и в драку, и их пришлось разнимать. Начальству подали рапорт о нарушении воинской дисциплины, и Бориса приговорили к десяти годом лагерей за контрреволюционную агитацию по статье 58–10–2.
Работая закройщицей, Адрианова получала очень мало и тайно подрабатывала пошивом на дому. За годы работы, экономя каждую копейку, ей удалось построить в пятнадцати километрах от Москвы дощатый дом, состоящий из одной комнаты и кухни. За этой лачугой находился огород, где она выращивала картошку.
В восемь часов вечера пришла Надя и очень обрадовалась новостям о брате. Мы сели за стол и стали есть суп с квашеной капустой и жареную картошку. Наде нужно было уходить рано утром, и они с матерью легли на кухне, а меня разместили в комнате. Перед тем как лечь, я выглянула в окно и увидела, как двое моих «личных» милиционеров играют в снежки, чтобы согреться.
Кровать была удобной, но я с трудом смогла заснуть. За три дня в Москве я ничего не добилась. Завтра я уже не смогу переночевать здесь: если я останусь у Адриановой дольше чем на сутки, ее оштрафуют на сто рублей за то, что она не сообщила в милицию о моем присутствии. Французское посольство было моей последней надеждой уехать из этой проклятой страны. Возможно, я смогу воспользоваться моментом, когда откроются большие ворота, и, пока автомобиль будет выезжать, я забегу внутрь… В итоге я остановилась на этом варианте.
5 января я встала в девять часов утра и спешно позавтракала, так как моя электричка в Москву уходила в девять сорок. Я обещала Адриановой вернуться тем же вечером. На станции, возле печки, я вновь увидела двух своих сопровождающих, они дрожали от холода, несмотря на поднятые воротники. Их ночь прошла явно хуже моей.
Оказавшись в Москве, я направилась в посольство. Если бы у меня был шанс, я смогла бы осуществить свой план, но в нескольких метрах от здания меня окружили четыре милиционера. Я больше не могла сделать ни шага и вынуждена была подчиниться, не переставая кричать: «Дьявол! Откуда вы вышли?»
Удивительно, но меня отпустили, когда мы уже довольно далеко отошли от посольства. Для меня это стало совершенно очевидным предупреждением: нужно срочно уезжать из Москвы. Завтра уходит поезд, отправляющийся по четным дням в Архангельск. Вернувшись на Кузнецкий Мост, я зашла в книжный магазин «Международная книга» и купила единственную доступную в Москве французскую газету – «Юманите»
[126]. К сожалению, по содержанию она ничем не отличалась от московских газет. Я напрасно потратила тридцать копеек.
Надо было чем-то занять себя до восьми часов вечера завтрашнего дня. Я зашла в какую-то столовую и взяла квашеную капусту, а затем решила пройтись по магазинам, чтобы немного отвлечься от проблем. По ГУМу бегали толпы народу. В хозяйственном отделе выстроилась очередь за только что выставленными на продажу кастрюлями, а в отделе нижнего белья между покупателями разразилась настоящая битва за пару трусов. Этот гул напомнил мне негодование заключенных в лагерях. Одни кричали, другие плакали, бóльшая часть ругалась друг с другом. Я увидела двух женщин, вцепившихся в одну пару белья, каждая изо всех сил тянула добычу на себя, пытаясь ослабить хватку соперницы. Наконец, сильнейшая одержала победу с воплем:
– Она не имеет права! Она уже третий раз тут стоит! Сколько же мужиков у нее дома, что ей нужно столько трусов!
В ГУМе я провела полдня, а в семь вечера пошла в кино, где показывали картину «Без вины виноватые». Зрители вокруг меня плакали, настолько их захватили эмоции. Я же видела слишком много, чтобы позволить себе поддаться пустым излияниям чувств. В девять вечера я вновь оказалась на улице. Ничего не оставалось, как только идти на Ярославский вокзал, где я могла переночевать, – билет на поезд у меня был. Я устроилась на лавке, напротив уселись мои «ангелы-хранители». Что бы ни ждало меня впереди, в запасе еще есть время, чтобы добраться до Молотовска. Я проснулась в шесть часов, умылась и выпила чашку крепкого чая, чтобы успокоить начавшуюся мигрень. В свой последний день в Москве я отправилась в Министерство здравоохранения – подать жалобу на главврача Молотовска Мишина, отказавшего мне в трудоустройстве. Начальник по кадрам принял меня вполне любезно. В ответ на мое заявление он выдал официальную бумагу, предписывавшую Мишину меня трудоустроить, и попросил держать его в курсе. Я поблагодарила его. Время тянулось медленно, и к трем часам дня я вернулась на вокзал. Разглядывая своих преследователей, я спрашивала себя, кто эти люди и будут ли они сопровождать меня до самого конца поездки? В семь вечера я села в поезд и, оказавшись одной из первых, выбрала себе место поудобнее. Наконец в восемь часов поезд тронулся. В Коноше, воспользовавшись остановкой, я вышла на платформу, чтобы размять ноги. До Архангельска оставалось ехать еще часов восемь-десять. Направляясь в туалет, я заметила одного из своих сопровождающих и почувствовала некоторое облегчение – по сути, нет ничего хуже, чем состояние неопределенности. Это был молодой человек лет тридцати. На нем была шелковая рубашка и костюм орехового цвета. Он ехал в соседнем купе.