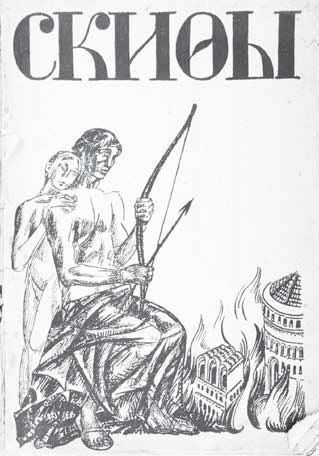Любовь Дмитриевна подала мужу стакан воды, налитой из стеклянного графина. Он выпил и продолжил говорить о том, что казалось ему очень важным:
— Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет, и долго не будет. Но жизнь непременно отдаст нам это, ибо она — прекрасна!
…Говорил Блок недолго и почти сразу же перешел к ответам на вопросы.
— Мы, студенты-медики, и еще вот… несколько наших товарищей, филологов, после октября сразу решили предложить свою помощь большевистским Советам, потому что революция — это и есть сама поэзия. Именно поэзия, превратившаяся в народное действо! Признаюсь, для нас радость и неожиданность, что и вы вошли в борьбу…
Блок улыбнулся, и восторженный юноша в серой тужурке неожиданно продекламировал:
Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь…
— Да, — смутился отчего-то Александр Блок, — но ведь в поэме эти слова у меня произносят или думают красногвардейцы. Эти призывы не прямо же от моего имени написаны…
Некоторые захлопали, кто-то начал выкрикивать с места, однако организатор поэтического вечера Витязев быстро привел всех к порядку:
— Задавайте вопросы, товарищ!
— Вот у вас там Христос в конце поэмы… — юноша испугался, что его снова кто-нибудь перебьет, поэтому заговорил торопливо и громко:
— Почему же Христос? Для чего это? Извините…
Блок ответил, практически не раздумывая, потому что об этом его спрашивали очень часто:
— Случалось ли вам, друзья мои, ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза? Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело… Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется — вот-вот они сорвутся и разобьются вдребезги. А снег вьется все сильней и сильней, заливая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она мечется во все стороны, накапливая силу, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается…
Блок сделал короткую паузу. Публика слушала.
— Представляете? Вдруг в ближайшем переулке мелькает светлое или освещенное пятно… Оно маячит, неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат? Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе. Прикованный и завороженный, ты тянешься за этим чудесным пятном — и нет сил, чтобы оторваться от него…
Тихо скрипнула одинокая половица, и в зале опять стало тихо.
— Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует… Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос. — Блок внимательно посмотрел на студента, задавшего первый вопрос: — Вещь эта имеет как бы эпиграф сзади, она разгадывается в конце неожиданно… и поначалу я даже хотел, чтобы конец поэмы был иной. Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа…
— Что такое для вас революция? — поинтересовался еще кто-то из слушателей.
— Труд — вот что написано на красном знамени революции. Священный и свободный труд, дающий людям жить, воспитывающий и волю, и сердце! Хотя на красном знамени написано не только слово «труд», написано больше, еще что-то…
— Сколько времени вы сочиняли «Двенадцать»?
— Поэма писалась довольно быстро. Стояли тогда, в январе, если помните, необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.
— Скажите, а что вы сейчас пишете?
— Время такое сейчас, положение такое, что не знаешь, что завтра будет… все насыщено электричеством, и сам насыщен… — Александр Блок попытался уйти от ответа. — Вот, недавно закончил «Возмездие», «Скифов»…
— Прочитаете нам? — попросила какая-то девушка. — Пожалуйста!
— Хорошо. С удовольствием.
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и
тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
Переполненный зал слушал молча и неподвижно. Даже табачный дым, казалось, перестал клубиться и замер где-то под потолком.
В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
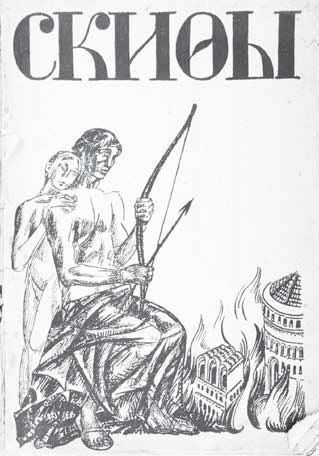
…Блок всегда был замечательным декламатором, так что двойные аплодисменты ему и как поэту, и как исполнителю достались по праву. Они не утихали долго, пока, в конце концов, со своего места не поднялся парень в матросском бушлате:
— А вы еще что-нибудь сочинили? Ну, кроме стихов…
— На военной службе я написал рассказ «Три часа в Могилеве».
— Прочитайте! — не то попросил, не то потребовал парень.
— Где он был напечатан? — захотел уточнить кто-то из публики.
— К сожалению, или, может быть, к счастью… — поэт улыбнулся одними губами, невесело, — текст этого рассказа сгорел при пожаре.
Возвращаясь из прифронтовой полосы, Блок заехал в любимое свое Шахматово и оставил там все, что успел набросать в Белоруссии. В его кабинете стоял старинный письменный стол, еще крепостной работы, который достался поэту от отца. В нем были секретные ящики, где Блок хранил самое ценное: письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, даже девичий дневник Любови Дмитриевны. Однако в семнадцатом году местные крестьяне начисто разграбили господский дом, сожгли библиотеку, разломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось только некоторое количество бумаг самого незначительного содержания.
…Поэтический вечер приближался к завершению, вопросы постепенно стали повторяться, и ведущий Витязев готов был уже произнести какие-то дежурные слова, когда из задних рядов опять послышался женский голос:
— Товарищ Блок, а можно мне спросить?
— Да, пожалуйста, — кивнул поэт.
— Вы ведь работали в составе Следственной комиссии при Временном правительстве. Скажите, будут ли когда-нибудь опубликованы результаты ее работы?