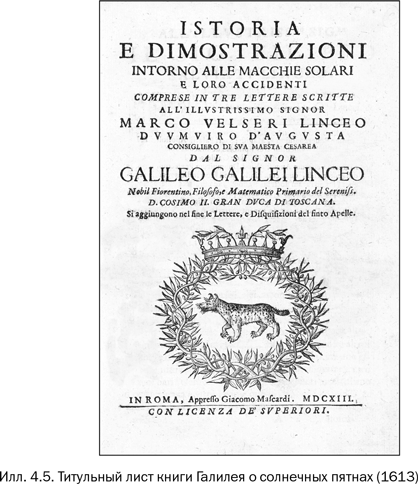В дополнение к своим соображениям о солнечных пятнах Шейнер привлек внимание к тому, что считал более убедительным свидетельством, чем фазы, – что Венера действительно обращается вокруг Солнца. Доказательство Шейнера основывалось на том факте, что таблицы, построенные на основе Птолемеевой модели, так называемые эфемериды, предсказывали кульминацию Венеры (прохождение планеты перед солнечным диском с точки зрения земного наблюдателя) 11 декабря 1611 г., однако этого длительного прохождения не наблюдалось.
Вельзер отправил письма Галилею, спрашивая мнение знаменитого ученого об идеях Шейнера и, очевидно, предполагая, что Галилей оценит научный подход, продемонстрированный их автором. Однако ответ “Апеллесу”, который он получил от Галилея, заметно расходился с его ожиданиями. С одной стороны, реакция Галилея была остроумной, весьма учтивой и, бесспорно, блестящей в научном отношении, с другой же – он высказывался чрезвычайно критически и несколько покровительственно. Например, говоря о том, что он считал одержимой приверженностью Шейнера концепциям Аристотеля (например, твердость и неизменность Солнца), Галилей писал, что Апеллес “еще не сумел полностью освободиться от чепухи, прежде ему внушенной”.
Галилей отвечал несколькими частями. Сначала он отправил два письма на итальянском языке (“потому что я непременно желал, чтобы это мог прочесть каждый”) в мае и октябре. Затем, после того как Шейнер ответил на первое из них собственным письмом, а Вельзер опубликовал всю подборку писем Шейнера под названием “Более точное рассуждение о солнечных пятнах и звездах, блуждающих вокруг Юпитера”, Галилей в декабре выслал третье письмо. Эти три письма также были опубликованы в Риме Академией деи Линчеи в марте 1613 г. под заголовком “История и доказательства относительно пятен на Солнце”
[97] (илл. 4.5).
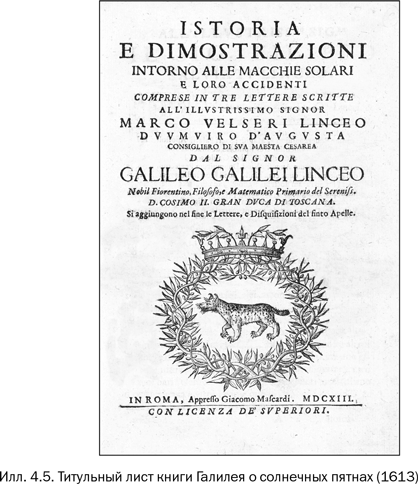
Галилей, никогда не славившийся умением смиренно принимать критику, был особенно раздражен заявлением Шейнера, что невозможность увидеть кульминацию Венеры представляет собой более убедительное доказательство вращения этой планеты вокруг Солнца. Он указал на ошибку Шейнера в оценке размеров планеты, а также на то, что достаточно было бы наличия у Венеры лишь ничтожной собственной светимости, чтобы сделать отсутствие пересечения солнечного диска ненужным для установления, как пролегает орбита Венеры.
После этой придирки Галилей перешел к опровержению предложенного Шейнером объяснения солнечных пятен
[98]. Он прояснил, что пятна в действительности не темные; они лишь кажутся темными относительно яркого диска Солнца, но на самом деле ярче, чем поверхность полной Луны. Затем справедливо указал, что движение пятен с разными скоростями и изменением взаимного расположения однозначно свидетельствует, что они не могут быть спутниками, поскольку “всякий, кто желал бы утверждать, что пятна были скоплением множества крохотных звезд, должен был бы включить в небеса бесчисленные движения, бурные, хаотические, лишенные какой-либо регулярности”. Вместо этого Галилей утверждает, что пятна находятся на поверхности Солнца или не дальше от нее (относительно), чем находились бы облака от поверхности Земли. Как и облака, поясняет он, пятна появляются внезапно, меняют форму и неожиданно исчезают. С опорой на интуицию, развитую изучением рисования, Галилей также показал, что кажущееся сужение пятен по мере приближения к краю солнечного диска объясняется попросту перспективным сокращением, наблюдаемым, когда нечто движется по поверхности сферы (илл. 4.6). Последнее и, пожалуй, самое важное: по движению пятен Галилей сделал приблизительную оценку, что Солнцу требуется около месяца на полный оборот вокруг своей оси. Действительно, сегодня нам известно, что период вращения Солнца на экваторе составляет 24,47 дня.

Галилей также спросил мнение кардинала Карло Конти по поводу солнечных пятен, что существенно повлияло на его проблемы с католической церковью в позднейшие годы. Кардинал ответил в июле 1612 г., что ничто в Писании не поддерживает представления Аристотеля о безупречном Солнце. Относительно коперниканства в целом, однако, Конти заметил, что эта теория противоречит Писанию и что другая интерпретация библейского языка “неприемлема в отсутствие подлинной необходимости”.
Наблюдения Галилея за солнечными пятнами и их интерпретация имели принципиальное значение по двум главным причинам. Во-первых, они продемонстрировали, что небесное тело может вращаться вокруг своей оси, не замедляясь и не обгоняя облакоподобные образования. Это могло мгновенно устранить два серьезных возражения против идеи о собственном вращении Земли в коперниканской модели. Отрицатели спрашивали, как может Земля сохранять состояние вращения и почему облака (или птицы, если на то пошло) не отстают от нее. Во-вторых, опубликовав свои результаты об осевом вращении Солнца в “Рассуждении о телах, погруженных в воду” – книге, формально посвященной плавающим телам, Галилей ознаменовал первое появление объединенной теории физики земной и небесной. Такого рода объединение позднее способствует возникновению ньютоновской теории всемирного тяготения (которая сведет воедино столь разнородные явления, как падение яблок на поверхность Земли и орбитальное движение планет вокруг Солнца) и вдохновит современных ученых сформулировать “теорию всего” – схему, объединяющую все фундаментальные взаимодействия (электромагнитное, сильное и слабое ядерные и гравитационное).
Как он часто делал, Галилей использовал возможность переписки о солнечных пятнах для того, чтобы продемонстрировать собственные представления о распространении знания. В письме своему другу Паоло Гуальдо, архиепископу Падуанского собора, он сделал несколько замечаний о том, что наука не должна быть сферой исключительно ученых. Галилей пояснил, что надеется, что из его писем Вельзеру даже те, кто “уверился, что в «толстых книгах содержатся великие откровения из логики и философии и еще больше таковых в их собственных головах»”, поймут: “Подобно тому как природа дала им, как и философам, глаза, чтобы видеть ее творения, так же дала она им и разум, способный проникать в них и постигать их”. Здесь Галилей однозначно утверждает себя как представителя, по определению писателя Джона Брокмана, “третьей культуры” – прямого канала сообщения между научным миром и непосвященными. Ключевое заявление Галилея: научное знание при адекватном изложении доступно пониманию неспециалистов и, поскольку оно является принципиально важной частью человеческой культуры, буквально каждый должен стремиться его обрести.
Что замечательно, Галилей в данном случае выразил даже меньшее удивление человеческой способностью постижения космоса, чем Эйнштейн в 1936 г.: “Извечная тайна мира – это его постижимость. То, что он постижим, есть чудо”
[99]. Замечания Галилея о способности человека раскрывать секреты природы отразились и в его знаменитом “Письме к Бенедетто Кастелли”, когда он сказал, что не верил, “что тот же Бог, который дал нам наши чувства, разум и интеллект, захотел, чтобы мы отказались ими пользоваться”.