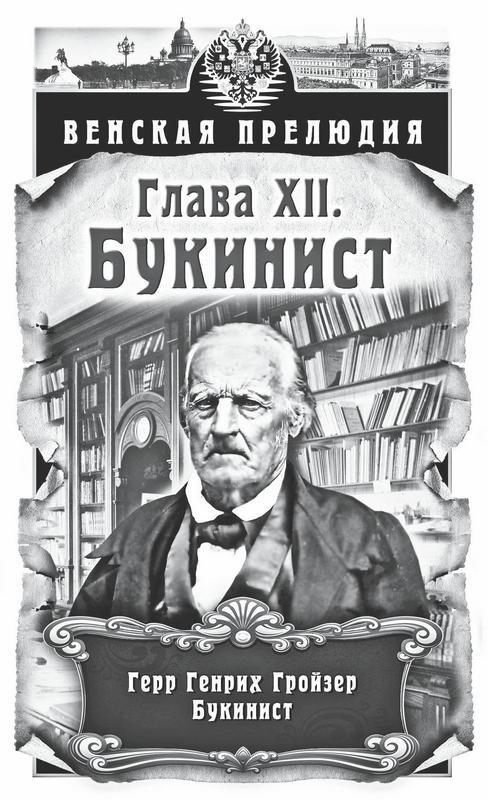— Если бы профессор в Одессе дал показания о том, кому он передавал собранные деньги, Бриджид сегодня не готовилась бы к выходу на сцену, а грела бы горло чаем в камере. Я прав? — спросил Джованни.
Ерёмин шумно выдохнул, успокаивая пульс, собрался с мыслями и ответил:
— В лучшем случае — кипятком. Подследственных в первые дни содержания под стражей не балуют. Психологический момент.
— Неважно. Кто бы её допрашивал?
— Лузгин или я. Дрентельн никого больше к допросам не допускает. Остальные собирают агентурную информацию, систематизируют её и подают генералу в докладе. Утром мы получаем новости, если они есть. Лузгин задаёт вопросы генералу, если нужно, но в кабинете с подследственными работаем только мы.
— Отлично. Значит, и с профессором будете работать только вы?
— Если генерал лично не посчитает нужным взглянуть на арестованного, то да, — дознаватель постепенно унял нервную дрожь в руках. — Протокол в любом случае буду вести я. Лузгина утром в отделении не будет.
Джованни, потирая короткими пальцами подбородок, пробормотал что-то на итальянском, после чего продолжил:
— Арестованных на ночь куда увозят?
— Никуда не увозят, — Ерёмин уже заподозрил неладное, но ещё не понял, куда клонит импресарио. — В подвале есть несколько камер. Небольшая внутренняя тюрьма. Каждый раз после допроса тюремную карету вызывать никто не станет.
— Bene…
[36] Припоминаю: вы, Джорджио, в своё время дальновидно спасли от заключения пасынка одного из ваших ротмистров… Как его фамилия? Хотя какая мне разница…
— Ивантеев. Старший караула, — Георгий Саввич говорил всё тише, он боялся оказаться правым в своих догадках.
— Всё сложилось, Джорджио, — с улыбкой на лице констатировал итальянец. — На допросе тяните время, вго́ните этого учёного в ступор, пусть запрётся. Пусть обидится. Вмажьте ему пару раз по лицу. Главное — чтобы он ничего нового не рассказал. А ночью он попрощается с этим миром и замолкнет навеки.
Ерёмин пару раз схватил ртом воздух, словно рыба, оказавшаяся на берегу:
— Но это невозможно! Это Третье отделение… Уж не думаете ли вы… Я — нет! Слушайте, Джованни, что сложилось? Что у вас сложилось? Вы хотите моими руками… Да взорвите по пути тюремную карету, наконец! Почему я?
Всё время, пока Еремин подбирал слова, заикаясь от напряжения, Джованни лишь утвердительно кивал, и с каждым его кивком Георгию Саввичу становилось всё труднее формулировать свои мысли.
«Этому сейчас самовар нельзя доверить, не то что такое ответственное дело…» — подумал итальянец, скривив лицо в презрительной улыбке.
— Вам нужно больше отдыхать, Джорджио. Нужен полноценный сон. Тогда к вам вернётся уверенность в себе, чистота мысли и решительность. Профессор должен покончить жизнь самоубийством. О каких взрывах вы говорите? Вам приходилось убивать?
Ерёмина всего трясло мелкой дрожью. Он и стрелять-то толком не умел, а о том, чтобы задушить человека голыми руками… Георгий Саввич взглянул на свои худые кисти рук, узловатые длинные пальцы и неожиданно громко крикнул:
— Нет!
— Я так и думал… — железным голосом сказал Джованни. — Насколько я понимаю, этот профессор иудейской веры?
Ответа не последовало. Ерёмин рассеянным взглядом продолжал разглядывать свои дрожащие руки.
— Вы слышите меня, Джорджио?
Дознаватель утвердительно кивнул, но выглядело это совершенно неубедительно.
— Завтра утром прикажете ротмистру Ивантееву заступить на ночную вахту и проведёте меня в камеру к профессору. Ему придётся повидаться с раввином. Я всё сделаю сам.
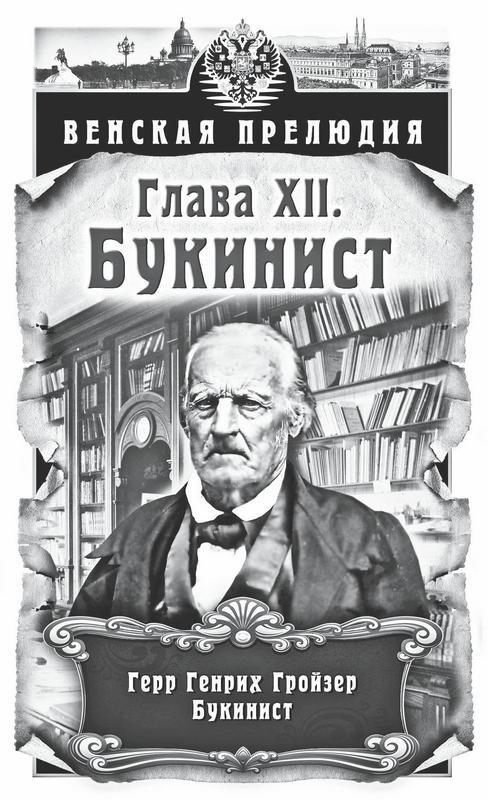
Глава XII. Букинист
— Зингерштрассе, девятнадцать, — громко скомандовал Лузгин, запрыгнув в экипаж почти на ходу, и Подгорский, сидевший на козлах большого зелёного фиакра в облачении кучера, лишь молча кивнул. Так поступил бы каждый из венских извозчиков, не славившихся своей разговорчивостью.
— Как спалось на новом месте? Обвыклись? — Лузгин с безразличным видом осматривал фасады с узкими, словно бойницы, окнами в ожидании ответа Завадского, вальяжно расположившегося справа на диване, обитом качественной кожей. Любой сторонний наблюдатель сделал бы для себя вывод, что два состоятельных господина решили нанять экипаж для прогулки по внутреннему городу
[37].
— Высота потолков в сочетании с непропорционально малой шириной апартаментов доводит меня до исступления. Такое ощущение, что посол мне выделил для жизни колодец. Как так можно строить? То ли дело у нас: если спальня — то хоромы, если обеденный зал — так человек на сто. Вот это я понимаю — широта души. А здесь? — Александр Александрович Завадский пребывал в раздражении и не намерен был этого скрывать. — Имел неосторожность для свежести воздуха оставить открытым то, что здесь называют окном. Комары у них, скажу я вам, породистые…
Подгорский тронул круп лошади длинным шестом и улыбнулся. Вчера вечером он предупреждал нового обитателя посольского жилого этажа о том, что с наступлением темноты окна следует держать закрытыми — воды Дуная посылают в окрестности не только ночную свежесть, но и стаи мелких назойливых кровососущих. Александр Александрович лишь благодарно кивнул в ответ, но цепкий взгляд Подгорского приметил початую бутылку шампанского. Скорее всего, к её окончанию Завадскому было уже не до закрытого окна.
— И все бока себе отлежал… — ворчал начинающий дипломат, потирая предплечье.
— Вам ли быть в печали, Сансаныч? — с налётом иронии заметил адъютант. — Неужто кровать в вашей келье жёстче, чем койка на броненосце береговой охраны «Колдун»?
Подковы серой в яблоках кобылы равномерно отбивали удары по мостовой, фиакр неспешно вёз господ почтенного вида к пункту назначения. Неожиданно Подгорский выругался на немецком, дёрнул на себя вожжи, с виноватым видом приложил руку к груди, пролепетал что-то вроде «нижайше прошу прощения за задержку» и спрыгнул на землю. Подтянуть узду на один пробой с каждой стороны оказалось делом быстрым — пассажиры только успели обменяться остротами по поводу того, что чиновник посольства Подгорский по выслуге лет без дела не останется. Извозчик из него проворный. Илья Михайлович, взобравшись на козлы, ещё раз, как положено приличному вознице, принёс свои извинения и вздёрнул вожжи.
— Не единожды я уже подумал, что та твёрдая койка в офицерской каюте мне милее, чем все эти венские красоты. Там я знал каждого человека рядом с собой и мог на него положиться с полной уверенностью. Как на брата. У меня такое чувство, что я сошёл на берег в порту, а мой броненосец ушёл в Кронштадт. Не сочтите за слабость, капитан первого ранга Лузгин. Так… На ваш вопрос о койке отвечаю… — тихо произнёс Завадский на ломаном немецком языке.