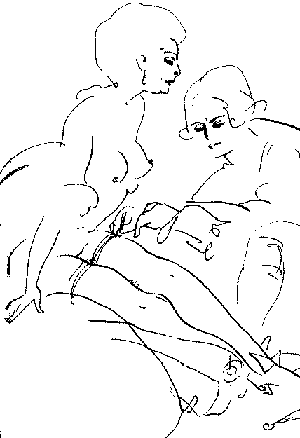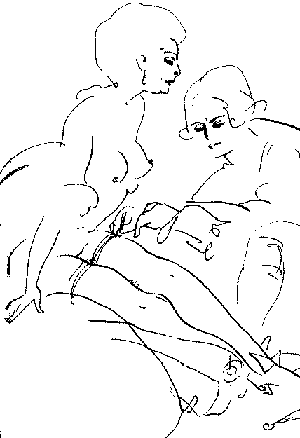
Когда все было готово, Дюкло поднялась на свое возвышение и
продолжила нить своего повествования такими словами:
«Три дня моя мать не появлялась дома, и ее муж,
обеспокоенный скорее за последствия и деньги, чем за ее персону, решил войти в
ее комнату, где они обычно прятали все, что у них было самого ценного. Каково
было его удивление, когда вместо того, что он искал, он обнаружил записку от
моей матери, которая писала ему, чтобы он смирился с постигшей его потерей,
потому что, решив расстаться с ним навсегда и совсем не имея денег, она
вынуждена была взять с собой все, что могла унести; и что в конечном итоге он
может обижаться за это лишь на себя и на плохое с ней обращение, и она
оставляет ему двух девочек, которые стоят всего того, что она уносит с собой.
Но малый был далек от того, чтобы считать, что одно стоило другого; он нам
вежливо сказал, чтобы мы даже не приходили ночевать домой, и это было явным
доказательством: он не думал так, как моя мать. Почти ничуть не обидевшись на
такой прием, который давал нам, сестре и мне. полную свободу предаться в свое
удовольствие той самой жизни, которая начинала нам нравиться, мы думали лишь о
том, чтобы забрать той мелкие вещи и так же быстро распрощаться с дорогим
отчимом, как он сам того желал. Мы перебрались с сестрой в маленькую комнатку,
расположенную неподалеку, ожидая покорно, что еще преподнесет нам судьба. Наши
первые мысли были об участи нашей матери. Мы ни минуты не сомневались, что она
находится в монастыре, решив тайно жить у кого-нибудь из святых отцов или быть
у него на содержании, устроившись в каком-нибудь уголке неподалеку; мы все еще
не слишком беспокоились, когда один монах из монастыря принес нам записку,
которая заставила изменить наши предположения. В записке говорилось, что
следует, как только стемнеет, прийти в монастырь к монаху-сторожу, тому самому,
который пишет эту записку; он будет ждать нас в церкви до десяти часов вечера и
отведет нас туда, где находится наша мать, и где она с удовольствием разделит с
нами счастье и покой. Он настойчиво призывал нас не упустить случая и особенно
советовал скрыть свои намерения от всех, поскольку было очень важно, чтобы
отчим не узнал ничего о том, что делалось для нашей матери и для нас. Моя
сестра, которой в ту пору исполнилось пятнадцать лет и которая была
сообразительней и практичней, чем я, которой было только девять, отослав
человека и ответив, что она подумает об этом, не могла не сдержать своего
удивления по поводу этих действий. «Франсон, – сказала она мне, –
давай не пойдем туда. За этим что-то кроется. Если это предложение искреннее, то
почему моя мать не приложила записки к этой или, по меньшей мере, не подписала
ее? Да и с кем она может быть в монастыре? Отца Адриена, ее лучшего друга, нет
там почти три года. С того времени она была лишь мимоходом, у нее там нет
больше никакой постоянной связи. Монах-сторож никогда не был ее любовником. Я
знаю, что она развлекала его два-три раза, но это не такой человек, чтобы
подружиться с женщиной по причине одного: нет человека более непостоянного и
жестокого по отношению к женщинам, как только его прихоть прошла! Откуда в нем
может взяться интерес к нашей матери? За этим что-то кроется, говорю тебе. Мне
он никогда не нравился, этот старый сторож: он – злой, твердолобый, грубый.
Один раз он затащил меня к себе в комнату, где с ним были еще трос; после того,
что со мной там произошло, я крепко поклялась, что больше ноги моей там не
будет. Если ты мне веришь, то давай оставим всех этих прохвостов – монахов.
Больше не хочу скрывать от тебя, Франсом: у меня есть одна знакомая, я даже
смею говорить, одна добрая подруга, ее зовут мадам Герэн. Я посещаю ее вот уже
два года; с того времени не проходило недели, чтобы она не устроила мне хорошую
партию, но не за двенадцать су, как то, что бывают у нас в монастыре: не было
ни одной такой, с которой я бы не получила меньше трех экю! Взгляни вот
доказательство, – продолжила она, показав мне кошелек, в котором было
больше десяти луидоров, – ты видишь, мне есть на что жить. Ну так вот,
если ты хочешь знать мое мнение, делай, как я. Госпожа Герэн примет тебя, я
уверена в этом; она видела тебя восемь дней тому назад, когда приходила за
мной, чтобы пригласить на дело, и поручила мне предложить тебе то же самое;
несмотря на то, что ты еще мала, она всегда найдет, куда тебя пристроить.
Делай, как я, говорю тебе, и наши дела вскоре пойдут наилучшим образом. В конце
концов, это все, что я могу тебе сказать; в виде исключения, я оплачу твои
расходы за эту ночь, но больше на меня не рассчитывай, моя крошка. Каждый – сам
за себя в этом мире. Я заработала это своим телом и пальцами, и ты делай так
же! А если тебя сдерживает целомудрие, то ступай ко всем чертям и не ищи меня,
поскольку после того, что я сказала тебе, если даже я увижу, как ты высунул
язык на два фута длиной, я не подам тебе и стакана воды. Что касается матери,
то я далека от того, чтобы печалиться об ее участи, какой бы она не была, и мое
единственное пожелание – чтобы эта проститутка была так далеко, чтобы мне
никогда ее не видеть. Я вспоминаю как она мешала моей работе со своими добрыми
советами в то время, как сама творила дела в три раза хуже. Дорогая моя, да
пусть дьявол унесет ее и, главное, больше не возвращает назад! Это все, что я
ей желаю».
По правде говоря, не обладая ни более нежным сердцем, ни
более спокойной душой, чем моя сестра, я с полной верой разделила брань,
которой она награждала нашу мать; поблагодарив сестру за то знакомство, которое
она предложила мне, я пообещала ей пойти вместе к этой женщине и, как только
она примет меня к себе, прекратить быть ей в тягость. «Если мать действительно
счастлива, тем лучше для нее, – сказала я, – в этом случае мы можем
быть счастливы, не испытывая необходимости разделять ее участь. А если это –
ловушка, которую нам подстроили, необходимо ее избежать». Тут сестра поцеловала
меня. «Пойдем, – молвила она, – теперь я вижу, ты хорошая девочка.
Будь уверена, мы разбогатеем. Я красива, ты – тоже, мы заработаем столько,
сколько захотим, милая моя. Но не надо ни к кому привязываться, помни об этом.
Сегодня – один, завтра – другой, надо быть проституткой, дитя мое, проституткой
душой и сердцем. Что касается меня, – продолжила она, – то я, как ты
видишь, настолько стали ей, что нет ни исповеди, ни священника, ни совета, ни
увещания, которые могли бы вытащить меня из этого порока. Черт подери! Я пошла
бы показывать задницу, позабыв о всякой благопристойности, с таким же
спокойствием, как выпить стакан вина. Подражай мне, Франсом, мы заработаем на
мужчинах; профессия эта немного трудна поначалу, но к этому привыкаешь. Сколько
мужчин, столько и вкусов; тебе следует быть готовой к этому. Один хочет одно,
другой – другое, но это не важно; мы для того, чтобы слушаться, подчиняться:
неприятности пройдут, а деньги останутся». Признаюсь, я была смущена, слушая
столь разнузданные слова от юной девушки, которая всегда казалась мне такой
пристойной. Но мое сердце отвечало этому духу; я поведала ей, что была не
только расположена действовать, как она, но даже еще хуже, если потребуется.
Довольная мной, она снова поцеловала меня; начинало холодать, мы послали купить
пулярку и доброго вина, поужинали и заснули вместе, решив утром пойти к госпоже
Герэн и попросить ее принять нас в число своих воспитанниц. За ужином моя
сестра рассказывала мне обо всем, чего я еще не знала о разврате. Она предстала
предо мной совсем голая, и я смогла убедиться, что это было одно из самых
прекрасных созданий, какие только встречались тогда в Париже. Самая прекрасная
кожа, приятной округлости формы и, вместе с тем, гибкий, интересный стан,
великолепные голубые глаза и все остальное – под стать этому! Я также узнала от
нее, с какого времени госпожа Герэн пользовалась ее услугами, и с каким
удовольствием она представляла ее своим клиентам, которым сестра никогда не
надоедала и которые желали ее снова и снова. Едва оказавшись в постели, мы
решили, что очень некстати забыли дать ответ Монаху-сторожу, который может
возбудиться нашим пренебрежением; надо, по крайней мере, быть осторожнее, пока
мы остаемся в этом квартале. Но как исправить эту забывчивость? Было больше
одиннадцати часов, и мы решили пустить все на самотек. Судя по всему, это
приключение запало глубоко в сердце сторожу, было довольно легко предположить,
что он старался скорее для себя, чем для так называемого счастья, о котором нам
говорил; едва пробило полночь, как кто-то тихонько постучал к нам в дверь. Это
был монах-сторож собственной персоной. Он ждал нас, как говорил, вот уже два
часа; мы, по крайней мере, могли бы дать ему ответ. Присев подле нашей кровати,
он сказал нам что наша мать окончательно решила провести остаток своих дне, в
маленькой тайной квартирке, которая находилась у них в монастыре; здесь ей
подавали лучшие блюда в мире, приправленные обществом самых уважаемых лиц дома,
которые приходили проводить половину дня с ней и еще одной молодой женщиной
компаньонкой матери; он собирался пригласить нас примкнуть к ним; поскольку мы
были слишком юными, чтобы определиться, он наймет нас только на три года; по
истечению срока он клялся отпустить нас на свободу, дав по тысяче экю каждой;
он говорил что имел поручение от матери убедить нас, что мы доставим ей удовольствие,
если придем разделить ее одиночество. «Отче, – нахально сказала моя
сестра, – мы благодарим вас за выгодное предложение. Но в нашем возрасте
не хотелось бы быть запертыми в монастыре, чтобы стать проститутками для
священников мы и без того слишком долго были ими».