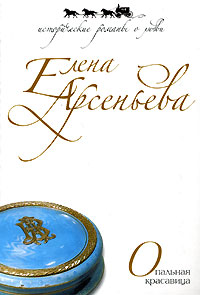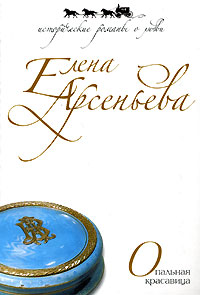
Глава 1
Кукла
Такого нудного лета она в жизни не помнила! Конечно, Елагин
дом не в счет; да там и не жизнь была вовсе, а полусонное ожидание. Но потом
случилось лето на Волге, и лето в Эски-Кырыме, и лето странствий с Августою...
Немудрено, что лето в Любавинe казалось унылым!
Одно хорошо: Валерьян и его кузина оставили Елизавету в
полном покое. Она сперва приписывала это шумиловским кулакам, или цыганскому
колдовству, или пробуждению в муже жалости. Однако рассудительная Татьяна враз
поставила все по местам:
– Иль не знаешь, что государь Петр Федорович волею божией
помре? Теперь царицею Катерина Алексеевна, она в случае чего графу нашему
спуску не даст! Что ж, если он вовсе безумный? Ну а потом, разве ему
сыночка-наследника иметь не хочется? Вот и притих пока. Но знай: только ты
родишь, как он снова за свое примется!
Елизар Ильич совсем поправился, но так исхудал, что даже и
против прежней своей худобы казался вовсе былинкою. Отношения его с графиней
были дружескими и теплыми. Елизавете, которая уже научилась принимать людей
такими, какие они есть или хотят быть, без юношеской к ним нетерпимости и без
желания всех непременно переиначить по-своему, удалось ничем не выказать, что
ее до глубины души уязвила терпеливая покорность Гребешкова, который как ни в
чем не бывало снова впрягся в привычную лямку работы управляющего, тем более
что летом работы было невпроворот. Она не знала, что должен был совершить
Елизар Ильич, но нельзя, нельзя же было просто так утереться, простить смертные
побои и беспричинные, бессмысленные унижения! Впрочем, сама-то она кто такая,
чтобы судить? Она-то ведь тоже живет, молчит, терпит... Ну и терпи!
Как-то вдруг, незаметно, березы принакрылись разноцветным
платком сентября, потом октябрь занавесил их вуалью дождя. Когда Елизавета
вовсе отяжелела и даже двигалась с трудом, не то чтобы блуждать с Татьяною по
полям да лесам, она все чаще задумывалась над именем для дочки, почему-то не
сомневаясь, что у нее родится именно девочка. Кого бы там ни хотел Валерьян,
Елизавета просто боялась думать о сыне, который хоть чем-то может напоминать
отца. Ну а дочка непременно должна быть похожа на нее! К тому же ее сильно
тошнило в первые три месяца. Коли так, уверяла всезнающая Татьяна, обязательно
будет дочка: парней в начале беременности носят куда легче. И в тех движениях,
которые Елизавета ощущала, напряженно вслушиваясь в себя, прикасаясь к
набрякшему животу, она находила особенную, девичью легкость, ласковость...
Впрочем, она не испытала, как ведет себя в утробе матери мальчик, а потому все
это была не более чем игра воображения.
Итак, имя! По их с Татьяною подсчетам, родить предстояло в
двадцатых числах октября, и они без конца перелистывали святцы: 22 октября –
день Казанской Божьей Матери, значит, можно назвать дочь Марией, 28 –
Неонилы-льняницы, 29 – Анастасии-римлянки... Елизавету раздосадовало, что
именно в эти дни каким-то образом затесалась Неонила. Нет уж, так она свою дочь
не назовет! Татьяна обмолвилась, что лучше всего окрестить девочку в честь
бабушки, но тут же добавила: «Я, конечно, не о тебе говорю: разве мыслимо в ее
честь назвать!» – «А почему? – удивилась Елизавета. – Вот, как раз 22 октября –
Мария, Казанская Божья Матерь. Очень даже подходит».
Она имела в виду княгиню Марию Измайлову, в девичестве
Стрешневу, которая умерла вскоре после похищения Неонилой Елагиной ее
малолетней дочки. Ведь если князь Михайла – ее, Елизаветы, отец, то княгиня
Мария – покойница-мать, а раз так, бабушка ее дитяти. Но Татьяна удивилась,
словно впервые о сем услышала, потом как бы спохватилась: «Ах, да! Я и не
поняла...» – и согласилась, что лучше, чем Мария, имени не сыскать. На том они
и порешили. И правильно сделали, потому что у Елизаветы все началось как раз 22
октября.
* * *
Всю ночь ей снилось, будто бродит она по колено в речке,
переполненной огромными плоскими, как серебряные блюда, карасями с
мутно-голубыми глупыми глазами, и ловит, ловит их голыми руками, а рыбы все
никак не убывает. Звенела, плескалась вода в речке. И когда Елизавета открыла
глаза, этот звон все еще слышался: дождик монотонно стучал в окно.
Говорят, на Казанскую вдаль не ездят: выедешь на колесах, а
приехать впору на полозьях. Денек выдался как раз по приметам: если небо
заплачет дождиком, то и зима следом за ним пойдет!
С трудом Елизавета заставила себя встать, причесаться,
склониться над лоханью с теплой водой. Всю ее так и ломало. «Хоть бы не
захворать, – подумала она сердито, – сейчас не ко времени!» И тут же
сообразила, что это не простудная ломота, а какая-то особенная: все тело словно
бы тянуло вниз. Испуганно расширив глаза, она обернулась к Татьяне:
– Кажется, начинается!
Но это были еще дальние подступы. Потом, когда воистину
началось, Елизавета уже не сомневалась.
Она много слышала разных рассказов про роды, про бабьи
мучения, про раздирающие душу вопли и сама постанывала, конечно: спина особенно
болела, хотелось лечь на что-нибудь твердое, жесткое, холодное, чтоб не
прогибалось. Сняли перины с кровати, но и это не принесло облегчения. Когда же
подступили настоящие схватки, ей почему-то сделалось стыдно кричать. Почти не
понимая, что делает, зажмурилась, заткнула уши, чтоб не слышать своих тихих,
жалобных стонов.
– Ты кричи, кричи, Лизонька! – увещевала Татьяна. – Тужься и
кричи!
Но она не кричала, жмурилась, словно пыталась спрятаться от
всех. И невольные слезы выступали на глазах цыганки: в этой борьбе Елизаветы с
самой собой она видела, сколько натерпелась ее девочка в жизни, как научилась
переламывать себя, никому и никогда не подавая виду, что ей плохо, что ей
больно, боясь показаться жалкой.
– Дил моэ! – бормотала Татьяна и даже сама как бы тужилась,
чтобы помочь Елизавете. – Черэн, мутин!
[1] Ну! Еще немного!
Воды хлынули уже поздним вечером; дальше все прошло очень
быстро. Когда показалась головка ребенка, Елизавета вдруг поддалась боли и
вскрикнула. Но один только раз, потому что Татьяна вскинула раскрасневшееся,
напряженное лицо и так рявкнула: «Эт-то еще что такое?! А ну, тихо!» – что
Елизавета от испуга замолчала и больше ничего почувствовать не успела: ребенок
уже родился.
Время приближалось к полуночи. Татьяна подала ей красненькое
сморщенное существо, очень медленно, как бы неуверенно шевелящее скрюченными
ручками и ножками и широко раскрывающее рот.
– Вот тебе твоя девонька!