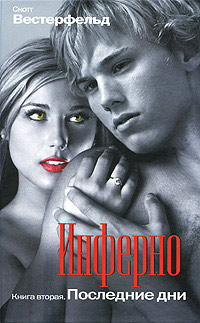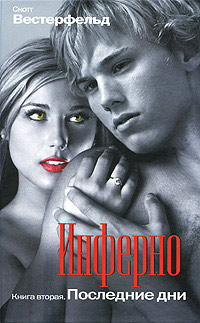
Джаззе, первой читательнице и лучшему другу.
Спасибо Моргане Бате и ее друзьям за «фотлично».
Часть I. Предпочтения
Вы когда-нибудь слышали эту очаровательную маленькую
песенку?
Ring-around-the-rosy.
A pocket full of posies.
Ashes, ashes, we all fall down.
Ее поют во время игры вроде «Каравая», когда дети ходят по
кругу, а потом по сигналу падают. В этом контексте ее можно перевести так:
Кружим вокруг розы.
Карман набит цветами. —
Прах, прах, все мы делаем бах!
Однако некоторые люди полагают, что это не что иное, как
описание Черной смерти, чумы четырнадцатого столетия, унесшей жизнь 100
миллионов человек. Теория такова: «Ring — around — the — rosy» можно также
грубо перевести как «розовые круги повсюду» и рассматривать как ранний симптом
чумы: круглые пятна покрасневшей кожи. Во времена Средневековья люди считали,
что цветы могут защитить от болезней, и носили их при себе. Слова «прах к
праху» присутствуют в заупокойной мессе, и дома жертв чумы часто сжигали.
А как понимать «все мы делаем бах»?
Ну, это вы можете вычислить и сами.
Прискорбно, однако, что большинство экспертов считают все
это ерундой. Красная сыпь в виде круглых пятен на самом деле вовсе не симптом
чумы, говорят они, а вместо «праха» в первоначальном варианте было какое-то
другое слово. Важнее, однако, то, что песенка слишком «молода». Она впервые
появилась в печати в 1881 году.
И все же поверьте мне: это о чуме. Слова немного изменились
по сравнению с оригиналом, но так происходит с любыми словами, на протяжении
семи веков повторяемыми устами детей. Это — маленькое напоминание о том, что
Черная смерть придет снова.
Почему я так уверен насчет этой песенки, когда все эксперты
против?
Потому что я ел малыша, который придумал ее.
Магнитофонные записи Ночного Мэра: 102–130
МОС
Такое впечатление, будто Нью-Йорк дал течь. Полночь уже
миновала, а все еще было сто градусов. Городские испарения просачивались сквозь
трещины в тротуарах, поблескивая в свете уличных фонарей, точно маслянистые
радуги. Груды мешков с мусором у ресторанов на Индиан-роу тоже протекали,
недоеденная карри
[2]
постепенно застывала, как цементный
раствор. На следующее утро эти блестящие пластиковые мешки будут омерзительно
вонять, но когда я проходил мимо них той ночью, они пахли шафраном и совсем
свежим, только что выброшенным рисом.
Люди истекали потом тоже — с лоснящимися лицами, с
закручивающимися на концах волосами, — как будто только что приняли душ.
Глаза у них остекленели, сотовые телефоны свисали с поясных ремней, мягко
мерцая и время от времени изрыгая фрагменты модных песен.
Я возвращался домой после игры с Захлером. Было слишком
жарко, чтобы писать что-то новое, поэтому мы просто в тысячный раз проигрывали
рифф,
[3]
построенный на одних и тех же четырех аккордах. Спустя
час я вообще перестал слышать, что у нас получается, — так бывает, когда
снова и снова повторяешь одно слово, пока оно не потеряет всякий смысл. В конце
я слышал лишь, как визжат струны под потными пальцами Захлера, а его усилитель
шипит, словно паровая труба; это была другая музыка, пробивающаяся сквозь нашу.
Мы прикидывались группой, разогревающей публику перед началом выступления,
медленно заводя ее в ожидании того, как в свет рампы выскочит вокалист: самое
долгое вступление в мире. Однако у нас не было никакого вокалиста, поэтому наш
рифф имел своим результатом просто ручейки пота.
Иногда я чувствую, что сейчас что-то произойдет — типа я
вот-вот порву гитарную струну, или меня поймают, когда я прокрадываюсь домой,
или мои родители очень близки к серьезной ссоре.
Поэтому за мгновение до того, как ТВ упал, я поднял взгляд.
Женщине было двадцать с чем-то, огненно-рыжие волосы, глаза,
как у енота, черная тушь стекала по щекам. Она выталкивала телевизор в окно на
третьем этаже, старый такой, еще в виде ящика; когда он летел вниз, шнур
питания молотил по воздуху. ТВ с гулким звоном стукнулся о пожарную лестницу,
но спустя несколько мгновений этот звук утонул в грохоте, с которым он рухнул
на мостовую в двадцати футах передо мной.
Вокруг моих ног рассыпались мелкие стеклянные осколки,
острые и блестящие, звякающие, словно подвески люстры. В них отражались
фрагменты уличных фонарей и неба, как будто телевизор распался на тысячу
крошечных, продолжающих работать экранов. На меня смотрели собственные глаза,
широко распахнутые, испуганные, удивленные.
Я снова поднял взгляд. На случай, если этой ночью всем
вздумается выкидывать из окон свои ТВ и придется прятаться под каким-нибудь
припаркованным автомобилем. Но там опять была она, испускающая долгие,
невразумительные вопли и выкидывающая все новые и новые вещи, как то: подушки с
кисточками на углах. Куклы и настольные лампы. Книги, машущие страницами,
словно подбитые птицы — крыльями. Банка с карандашами и ручками. Два дешевых
деревянных кресла, сокрушившие по пути оконную раму. Компьютерная клавиатура,
из которой во все стороны разлетелись клавиши и пружинки. Столовое серебро,
поблескивающее в полете и зазвеневшее о мостовую, словно треугольник,
[4]
возвещающий, что обед готов… содержимое целой квартиры,
выброшенное в окно. Чья-то жизнь, выставленная на всеобщее обозрение.
И все время она пронзительно вопила, словно дикий зверь.