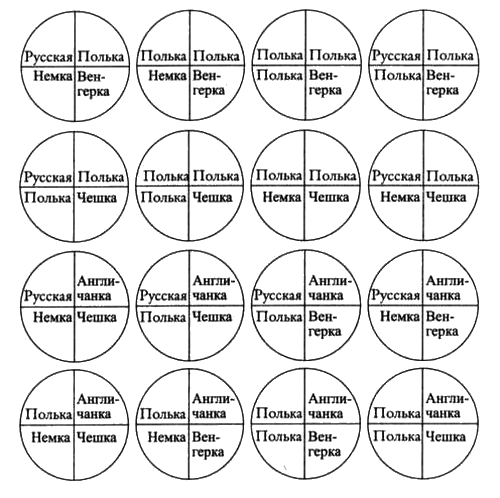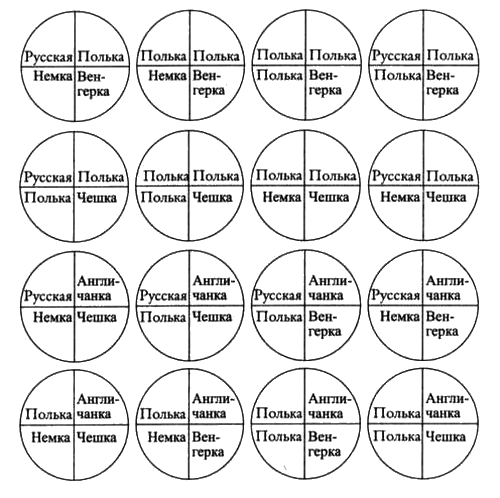
«И потом, ты всегда можешь сказать, что ты наполовину англичанка и наполовину израильтянка, потому что…» — «Я американка!» — заорала я. Мама прищурилась. «Как пожелаешь», — сказала она и пошла ставить чайник. Птица, который сидел в углу комнаты и разглядывал картинки в журнале, пробурчал: «Нет, ты не американка. Ты еврейка».
5. Однажды я воспользовалась этой ручкой, чтобы написать отцу
Мы были в Иерусалиме на мою бат-мицву.
[44]
Мама хотела отпраздновать ее у Стены Плача, чтобы могли прийти буббе и зейде, родители моего отца. Когда мой зейде приехал в 1938 году в Палестину, он сказал, что никогда оттуда не уедет, и не уехал. Чтобы с ним повидаться, нужно было ехать в Кирьят Вольфсон, в его квартиру в высотке, с видом на Кнессет.
[45]
Квартира была забита старой темной мебелью и старыми темными фотографиями, которые буббе и зейде привезли из Европы. Днем они опускали металлические жалюзи, чтобы защитить вещи от слепящего света, потому что все, что они привезли с собой, не было приспособлено к такому климату.
Мама несколько недель искала билеты подешевле и наконец нашла три по 700 долларов на «Эль-Аль». Для нас это все равно были большие деньги, но она сказала, что на это потратиться не жалко. За день до моей бат-мицвы мама повезла нас на Мертвое море. Буббе тоже поехала с нами, она была в соломенной шляпе с лентой, завязанной под подбородком. Когда буббе вышла из кабинки в купальнике, она выглядела потрясающе: вся кожа — в морщинах, складках и синих венах. Мы смотрели, как ее лицо краснеет от купания в горячих серных источниках, а на верхней губе выступают капли пота. Когда она вышла на берег, с нее ручьями текла вода. Мы пошли за ней. Птица стоял в грязи, скрестив ноги. «Если хочешь писать, иди в воду», — громко сказала буббе. Огромные русские женщины, вымазанные черной глиной, обернулись и посмотрели на нас. Может, буббе и заметила это, но ей было все равно. Мы покачивались на воде, а она следила за нами из-под широких полей своей шляпы. Мои глаза были закрыты, но я чувствовала над собой ее тень. «У тебя совсем нет груди, шо такое?» Я почувствовала, как мое лицо запылало, и сделала вид, что не слышу. «У тебя есть мальчики?» — спросила она. Птица навострил уши. «Нет», — пробормотала я. «Шо?» — «Я сказала, нет». — «А шо так?» — «Мне же всего двенадцать». — «Ну и шо! Когда я была в твоем возрасте, у меня уже было три, а то и четыре мальчика. Ты молоденькая и хорошенькая, кейнехоре».
[46]
Я начала грести, чтобы убраться подальше от ее необъятной груди. Вслед мне донесся ее голос: «Но это не навсегда!» Я попыталась встать и поскользнулась на глине. Я оглядывала ровную поверхность воды, пытаясь разглядеть маму. Она заплыла дальше всех и продолжала плыть вперед.
На следующее утро я стояла у Стены Плача, и от меня все еще пахло серой. Щели между массивными камнями были заполнены крошечными скомканными записочками. Раввин сказал мне, что я тоже могу написать записку Богу и засунуть ее в щель. В Бога я не верила, так что вместо этого написала записку отцу. «Дорогой папа, я пишу эти слова ручкой, которую ты подарил мне. Вчера Птица спросил, владел ли ты методом Хеймлиха,
[47]
и я ответила ему, что владел. А еще я сказала, что ты умел летать на самолете. Да, я нашла твою палатку в подвале. Наверно, мама не заметила ее, когда выкидывала твои вещи. Она пахнет плесенью, но не протекает. Иногда я ставлю ее во дворе и лежу внутри, думая о том, что ты когда-то тоже вот так лежал. Я пишу тебе, хоть и знаю, что ты не сможешь это прочесть. Я тебя люблю. Альма». Буббе тоже написала записку. Когда я попыталась засунуть свою записку в Стену, ее бумажка выпала. Буббе была так занята молитвой, что не заметила, как я подняла ее листок и развернула его. Там было написано: «Барух ха-Шем,
[48]
дай мне и моему мужу жить, чтобы увидеть завтрашний день, и пусть моя Альма вырастет, благословленная здоровьем и счастьем и, что уже тут такого неприличного, с симпатичной грудью».
6. Если бы у меня был русский акцент, все было бы по-другому
В Нью-Йорке меня ждало первое письмо от Миши. «Дорогая Альма, — начиналось письмо. — Поздравляю! Я очень рад получить от тебя привет!» Ему было почти тринадцать, он на пять месяцев старше меня. Его английский был лучше, чем у Татьяны, потому что он выучил наизусть почти все песни The Beatles. Он пел их, аккомпанируя себе на аккордеоне, который ему дед подарил. Тот, который переехал к ним, когда Мишина бабушка умерла, и, если верить Мише, ее душа спустилась в Летний сад в Санкт-Петербурге в виде стаи гусей. Стая прожила там две недели. Гуси все кричали и кричали под дождем, а когда улетели, вся трава была усыпана гусиным пометом. Дед прибыл несколько недель спустя, толкая перед собой потрепанный чемодан, набитый восемнадцатью томами «Истории евреев». Он поселился в комнате, и без того очень тесной, которую Миша делил со своей старшей сестрой Светланой. Дедушка достал аккордеон и принялся за свое самое главное в жизни занятие. Сначала дед просто сочинял вариации на тему русских фольклорных песен вперемешку с еврейскими мелодиями. Потом он перешел к более мрачным, диким аранжировкам и в самом конце стал играть уже нечто совсем неузнаваемое. Дед рыдал, выводя протяжные ноты, так что даже Миша и Света, какими бы глупыми они ни были, понимали, что их дедушка наконец стал композитором, о чем всегда мечтал. У него была побитая машина, которую он оставлял в переулке за их домом. По рассказам Миши, дед водил ее как слепой, давая машине почти полную свободу, предоставляя ей самой чувствовать дорогу, слегка касаясь руля кончиками пальцев лишь в том случае, если ситуация становилась опасной для жизни. Дед приезжал забирать их из школы, и Миша со Светланой обычно затыкали уши и старались не смотреть в его сторону. Когда же он заводил мотор и его присутствие уже невозможно было игнорировать, они, опустив головы, спешили к машине и протискивались на заднее сиденье. Они жались друг к другу, а дед, сидя за рулем, подпевал записям Pussy Ass Mother Fucker, панк-группы их двоюродного брата Левы. Он вечно перевирал текст. Вместо «влез в драку, разбил лицо о дверь машины» он голосил «в лес к дураку, мозги лицом, там две машины» и вместо «ты вша, но ты такая хорошенькая» пел «левша, но как горошина». Если Миша с сестрой его поправляли, дед изображал удивление и увеличивал звук, чтобы получше расслышать слова, но в следующий раз пел все равно то же самое. Когда дед умер, он оставил Свете восемнадцать томов «Истории евреев», а Мише — аккордеон. Примерно в то же время сестра Левы, которая подводила глаза синими тенями, пригласила Мишу к себе в комнату, сыграла ему Let it be и научила его целоваться.