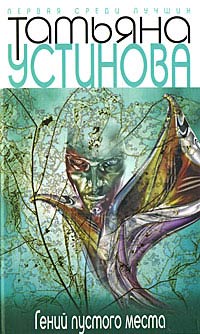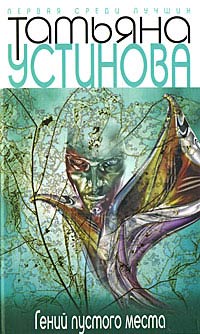
Пусть сопутствуют вам всегда теплые слова в холодный вечер,
полная луна в темную ночь и дорога с холма к порогу вашего дома!
Ирландский тост
…И еще она сказала, чтобы он отправлялся к своей мамочке или
куда угодно, и Хохлов поехал к Лавровскому.
Не ехать же в самом деле к родителям!..
Метель мела, «дворники» не справлялись, Хохлов ехал
медленно, время от времени тер рукой запотевшее стекло и растравлял свои раны.
Давно нужно было все это дело закончить!.. Сто раз говорил
себе, что уже пора, но у него все никак мужества не хватало, и вот до чего
дошло – они стали ссориться так, что она его выгоняет!
Какой ты мужик!.. Тряпка ты, и больше ничего, вот и езжай
теперь к Лавровскому, а там еще неизвестно, как примут! Да и что значит –
примут! Принять-то, конечно, примут, но не станешь же там жить целую неделю с
чужими чадами и домочадцами, когда уже можно помириться с Галчонком и вернуться
домой!
Давно нужно было все это дело закончить, ох, давно!.. По
большому счету, лучше бы и не начинать!
Тут Хохлов засмеялся, перестал тереть стекло, прицелился,
чтобы не угодить под «КамАЗ», и повернул налево, в переулки. Впрочем, в их
городе все, что не центральная улица, бывшая Ленина, а теперь имени Жуковского,
– это переулки.
До Москвы рукой подать, если до Кольцевой, то всего выходит
километров двенадцать, а вокруг провинциальная глушь, и близость столицы
ощущается только по красному мареву, которое колышется на горизонте в той
стороне, где мегаполис ворочается и ревет в своем ложе, как будто там
непрерывно горит невиданное северное сияние.
Повернув, Хохлов перестал видеть сияние. Теперь перед ним
лежала тихая, спящая в сугробах улочка, с двух сторон обсаженная липами и
застроенная хрущевскими пятиэтажками.
Где дом-то? То ли этот, то ли вон тот, рядом с помойкой!
Вечно он путает и никак не может запомнить! Впрочем, это и немудрено, если все
вокруг одинаковое – и липы, и дома, и помойки, а фонарь, сколько себя помнил
Хохлов, всегда горел только один, на углу, возле школы. Он и по сей день там
горит, освещает въезд во двор и несколько торчащих из снега прутиков акации.
Эти прутики когда-то во втором классе они ломали, привязывали на них бумажные
цветы и маршировали с ними на первомайскую демонстрацию. Тогда так было принято
– на Седьмое ноября, день пролетарской революции, прикалывать к драповому
пальтецу красный бант, а на Первое мая, день пролетарской солидарности
трудящихся, навязывать на голые ветки бумажные цветы. Все считали, что это
очень красиво, и Хохлов тоже так считал.
И вообще ему нравилось ходить на демонстрации, кричать «ура»
и размахивать цветами.
Так дом-то какой, черт бы его взял?!.
Тут ему пришла в голову гениальная мысль, что хорошо бы
позвонить, прежде чем ехать ночевать к старинному другу, обремененному супругой
и потомством, а заодно и спросить номер дома, но Хохлов, продолжая и в машине
полемизировать с Галчонком, как-то позабыл о таком простом решении.
Он приткнулся под фонарем, выудил из кармана нагретый
мобильный телефон, ошибаясь, потыкал толстым от перчатки пальцем в кнопки, все
равно не попал, сдернул перчатку зубами и нажал нужную кнопку.
– Алло!
– Диф, эфо я, Фофлов.
– Алло? – с недоумением переспросил Лавровский.
Хохлов выплюнул перчатку и сказал, что он поссорился с
Галчонком, а теперь еще и Димкин дом потерял, и где он, этот самый дом, чтоб
ему пусто было!
– Хохлов, это ты, что ли?!
– Нет, – мрачно сказал тот. – Ни фига не я.
– А… чего ты звонишь по ночам?!
– По каким еще ночам?! Время полдевятого только!
– Да ты что?! – поразился Лавровский. – А я думал, что уже…
а-а-а… – И он вдруг откровенно зевнул в трубку.
– Говори быстро номер дома, – приказал Хохлов, – долго я еще
тут буду стоять?
– Во… восемь, – с некоторой заминкой ответил Лавровский, но
Хохлов был не настолько деликатен, чтобы заминки его смущали. – Квартира сорок
пять. А где ты стоишь?
– Возле школы, – буркнул Хохлов. – Давай чайник ставь, я уже
поворачиваю.
И он сунул телефон в карман, еще немного поскреб стекло,
которое совсем запотело от его разговора и дыхания, и повернул во двор. Нет,
нужно менять машину. Менять, менять, и никаких гвоздей! Завтра же поедет в
салон и выберет себе… выберет… так, значит, завтра он поедет и выберет…
Приткнуться было некуда – снегом завалило весь двор, и
машины стояли в один ряд, а какой-то удалец свою почти что на березу
взгромоздил. Хохлов остановился и огляделся. И куда теперь?..
Завтра же он поедет в салон и выберет себе… трактор! А что?
Милое дело на тракторе кататься! Раз уж национальная зимняя одежда у нас шапка
с ушами и тулуп с валенками, значит, национальной зимней машиной у нас должен
быть трактор!
Пришлось встать возле самой помойки. Завтра с утра сюда
потянутся пенсионеры с ведрами и будут его ругательски ругать, потому что
прямой доступ к такому замечательному месту практически перекрыт, а еще с
рассветом на помойку слетятся голуби, божьи птички. Голуби изгадят всю машину,
кляксы помета замерзнут и впечатаются в краску, и не отмыть их будет, не
оттереть, и придется Хохлову с голубиными метками ездить!..
Впрочем, недолго, ибо завтра он купит трактор и будет ездить
на нем.
Хохлов выбрался из машины как раз в ту сторону, где в рядок
стояли ящики, и сразу же почувствовал непередаваемый запах, который не мог
заглушить даже ядреный русский мороз.
Тут телефон у него зазвонил, и он подумал, что вдруг это
Галчонок одумалась и можно теперь поехать домой переночевать, а к Лавровскому
не переться!
Звонила мать.
– Митя?
– Вася, – представился матери Хохлов.
– Мить, ты где? Я домой звонила, а там никто трубку не
берет!
Галчонок страдает и не отвечает на звонки, понял Хохлов.
– А я… к Димке поехал, мам. Нам поговорить нужно.
– К Лавровскому?
Хохлов промолчал. Он терпеть не мог, когда ему задавали
такие вопросы. Все ему казалось, что таится в них ущемление его свободы и
вообще поражение в правах. Ну какая разница, к какому именно Диме он поехал?!
Матери до этого что за дело?! Ее сыночку сорок лет скоро, а она все спрашивает,
все выясняет, все беспокойство проявляет! Зачем, зачем?.. Сидела бы перед
телевизором, смотрела бы телеканал СТС, пила бы свой смородиновый чай да
перекликалась с отцом, который в последнее время стал глуховат, – отличная
жизнь!