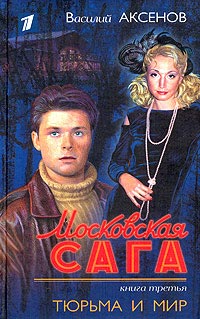
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком...
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах...
Борис Слуцкий
Выделявшийся среди поэтов зрелой советской поры своим
талантом, автор приведенных в эпиграфе строк все-таки не достиг ясности
Хлебникова, а потому этот, как и предыдущий наш эпиграф Л.Н.Толстого, нуждается
в некотором пояснении.
Называя Сталина «богом», Борис Слуцкий, естественно, как
человек, воспитанный на идеалах коллективизма, материализма, интернационализма
и прочей коммуналки, употребляет это слово в сугубо негативном смысле. Уж
конечно, не Бога, Творца Всего Сущего, имеет он в виду, а некое идолище,
узурпатора светлых идей революции, тиранище, надругавшееся над вдохновениями
молодых ифлийцев, установившее свой культ над поруганной народной демократией.
Потому и снабжает он своего «бога» ошеломляющим, с точки зрения материалиста,
парадоксом – едет одновременно в пяти машинах! Перед нами морозящая кожу
картина: ночь, Арбат, размножившееся на пять машин идолище едет в своем
неизвестном направлении. Отнюдь не мчится. Кажется, не любил быстрой езды. Как
с человека нерусского, с него и взятки гладки.
В шестидесятые годы в гараже «Мосфильма» стояла одна из этих
пяти машин, может быть, самая главная, где основная часть идолища
передвигалась, его тело. Это был сделанный по заказу бронированный «паккард» с
толстенными стеклами. Даже с очень мощным мотором такую глыбу трудно было
вообразить мчащейся. Неспешное, ровное, наводящее немыслимый ужас движение.
Впереди и сзади катят еще четыре черных чудища. Все вместе – одно целое, «бог»
коммунистов.
Писатель иной раз может испытать соблазн и, сопоставив два
противоположных чувства – страх и отвагу, сказать, что это явления одного
порядка. Страх, однако, более понятен, он ближе к биологии, к естеству, в
принципе он сродни рефлексу: отвага сложнее. Так, во всяком случае, нам
представляется к моменту начала нашего третьего тома, к концу сороковых годов,
когда страна, еще недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим
страхом сталинской пятимашинности.
Глава 1
Московские сладости
В Нагаевскую бухту входил теплоход «Феликс Дзержинский»;
весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, «буревестник революции».
Таких профилей, пожалуй, не припомнит Охотское море с его невольничьими
кораблями, кургузыми посудинами вроде полуразвалившейся «Джурмы».
«Феликс» появился в здешних широтах после войны, чтобы
возглавить флотилию Дальстроя. Среди вольноотпущенников ходили насчет
заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому
Гитлеру и что в тридцать девятом злополучный фюрер подарил его нашему вождю для
укрепления социалистических связей. Подарить-то подарил, а потом пожадничал и
отобрал назад, а заодно и чуть Москву не захапал. История его, конечно,
наказала за коварство, и теперь кораблик снова наш, закреплен навеки гордым
именем «рыцаря революции». По этой байке выходило, что чуть ли не вся Великая
Отечественная разгорелась из-за этой посудины, однако чего только не намелют
бывшие зеки, сгрудившись вьюжной ночью в бараке и наглотавшись чифиря. Ну и,
конечно же, непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого
героя по кличке Полтора-Ивана.
Полтора-Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юный, но
в то же время очень зрелый, звероподобный зек. Сроку у него было в общей
сложности 485 лет плюс четыре смертных приговора, отмененных в последний момент
самим великим Сталиным. Именно Полтора-Ивану, а не какому-нибудь адмиралу вождь
поручил провести «Феликса» с живым товаром на Колыму. Как так – зеку поpучил
командовать этапом? Вот именно зеку, но не какому-нибудь охламону, как мы с
тобой, а самому Полтора-Ивану! Секрет в том, что у «Феликса» в тpюмах сидели
тогда 1115 бывших Героев Советского Союза, то есть неспокойный народ. Довезешь
гадов до Колымы, сказал Сталин Полтора-Ивану, сам станешь героем, впишешь свое
имя золотом в анналы... Куда? В анналы, жопа, в анналы! Не довезешь, расстреляю
лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии.
Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, сказал
Полтора-Ивана и полетел с Покрышкиным на Дальний Восток. Что же получилось?
Вместо Нагаева «Феликс» причалил в американском порту, санитарном Франциско.
Там уже их встречал президент Генрих Трумен. Всем героям вернули их звания и
дали по миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке: сыты, обуты, одеты. А
Полтора-Ивану Генрих Трумен десять миллионов отвалил за предательство СССР, и
дачу в Аргентине. Нет, сказал тут Полтора-Ивана, я не родину предавал, а спасал
товарищей по оружию, мне ваших денег не надо, гражданин Трумен. И повел
«Феликса» обратно к родным берегам. Пока он плыл, обо всем доложили Сталину.
Сталин беспрекословно восхитился: вот такие люди нам нужны, а не такая гниль,
как вы, Вячеслав Михайлович Молотов!
На Дальний Восток был послан полк МГБ для расстрела героя
нашего романа. Кинооператор заснял фильм о конце Полтора-Ивана, который
показывали всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом деле расстрелян
был, конечно, двойник, а Полтора-Ивана со Сталиным съели при встрече жареного
барана и выпили самовар спирту, после чего Полтора-Ивана в форме полковника МГБ
отправился на Дальстрой и затерялся на время в одном из дальних лагерей.
Такие байки иногда доходили и до капитана «Феликса», но он
подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, чем
интересовался этот человек. Стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего
атлантического кабелеукладчика, взятого нацистами у голландской компании, а
потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капитан без интереса, но
внимательно озирал крутые скалы Колымы, без проволочек уходящие ко дну бухты
Нагаево, что приплясывала сейчас под северо-восточным ветром всеми своими
волнишками одномоментно, словно толпа пытающихся согреться зеков. Сочетание
резких, глубинных красок, багряность, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к
примеру, проходящих туч вкупе с прозрачностью страшных далей капитана не
интересовало, но к метеорологии, естественно, он относился внимательно. Вовремя
пришли, думал он, хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом случалось,
что и в одну ночь схватывалась льдом.

