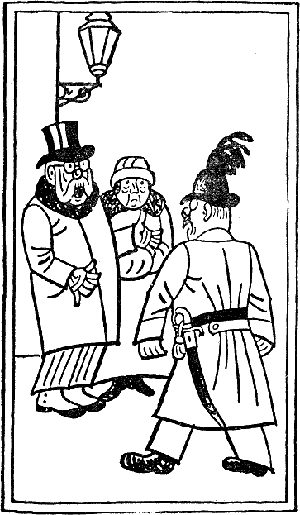— Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик
Лукаш, — вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым
образом унижать офицерство.
— Нет у меня такого обыкновения, — откровенно
признался Швейк. Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше
на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он
образованнее господина обер-лейтенанта, и хотел Луной унизить его в глазах
солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегчённо вздохнули, никому
это не было неприятно, наоборот, всем понравилось, как сострил господин
обер-лейтенант с этой земной затрещиной; это называется спасти положение. Нужно
тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать, и дело в шляпе. Несколько лет
тому назад, господин обер-лейтенант, в Праге, напротив кармелитского монастыря,
была лавка пана Енома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Еном
стал ухаживать за дочерью переплётчика Билека. Пану Билеку это не нравилось, и
он публично заявил в трактире, что, если пан Еном придёт просить руки его
дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Еном напился и
всё же пошёл к пану Билеку, встретившему его в передней с большим ножом,
которым он обрезал книги и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек.
Билек заорал на пана Енома, — чего, мол, ему здесь надо. Тут милейший пан
Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан
Билек расхохотался, подал пану Еному руку и сказал: «Милости прошу, войдите,
пан Еном; присядьте, пожалуйста, надеюсь, вы не накакали в штаны? Ведь я не
такой уж злой человек. Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, — вы
очень приятный человек и большой оригинал. Я переплётчик, прочёл много романов
и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким
образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения
знакомы, словно родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за
пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми
подробностями об его визите. Та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил:
«Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришёл просить твоей
руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его
даже не хочет, так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть
сардельки и разойтись. После этого пан Еном был опозорен в трактире, куда ходил
Билек, и всюду, во всём квартале, его иначе не звали, как «засранец Еном». И
все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая
вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин
поручик, ни черта не стоит. Ещё до войны к нам в трактир «У чаши» на Боиште
ходили полицейский, старший вахмистр пан Губичка, и один репортёр, который
охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о
них в газетах. Это был большой весельчак, в дежурной комнате полиции он бывал
чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку,
поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из
пана репортёра получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер
револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Рессловой улице, за бывшей
Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в
цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не
разговаривали. Он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо: «Не
орите так, или я вас отведу!» Представьте себе, господин обер-лейтенант, их
испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение, они
возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника. Экипаж довёз их
до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко,
на Морани, сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы
меня не дурачьте, — продолжал орать переодетый репортёр. — Вам тем
более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии
генерал-губернатора, а ведёте себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю,
я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся
вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам». —
«Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это, должно быть, кто-то, шедший
впереди нас». — «Как же эта трость может у вас быть, — ответил
переодетый репортёр, — когда, я это сам видел, вы её обломали вон за тем
углом о старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны».
Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что
стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему
патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортёр велел эту
пару отвести в комиссариат, сам он-де идёт к «Святому Индржиху», по служебным
делам был на Виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали
участие в ночной драке, кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он
торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он
придёт в комиссариат на Сальмовую улицу.
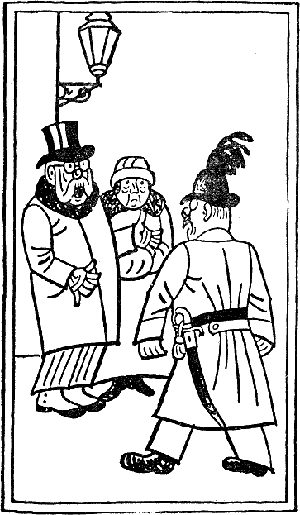
Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра
и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путём пробрался «К
чаше» на Боиште, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о
случившемся и намекнул о том, что может подняться серьёзное дело, если тот не
будет держать язык за зубами.
Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем
пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку:
— Если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от
часу будет глупее и глупее.
— Господин обер-лейтенант, — кричал вслед
отъезжавшему поручику Швейк, — хотите узнать, чем это кончилось?
Поручик Лукаш поскакал галопом.
Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из
санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи,
стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью,
обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки.
Это был набор разных поучений. Он начал:
— Любовь солдат к господам офицерам делает возможными
невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, — и даже наоборот, —
чтобы эта любовь была врождённой. Если у солдата нет врождённой любви, то его
следует к ней принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к
другому, скажем, школьного сторожа к учительскому персоналу, продолжается до
тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая её. На военной службе мы
наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни
со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой
любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь — не обычная
любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина.
Швейк всё это время шёл с левой стороны санитарной повозки.
И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику,
делая «равнение направо».