— Ты права… Здесь ты переиграла меня, — он рванул дверцу машины, но Флора сжала его руку, пытаясь удержать.
— Прости, я действительно немного переиграла. Ты… Ты не должен был этого видеть… Это очень серьезно, хотя кажется игрой. Этот человек и вправду директор музея, но нас связывают совсем иные отношения, чем те, которые ты вообразил.
— Зачем ты взяла меня на этот шабаш с пудреными девками, и нарядила, как цирковую лошадь?
— Мне было нужно твое присутствие. По давней традиции на этих балах дамы появляются только с кавалерами.
— Чтобы вызвать ревность прежних кавалеров?
— Нет. Просто есть очень давнее правило, вернее, одна из традиций этого рыцарского ордена. Женщины допускаются на его собрания только в присутствии спутников. Если женщина одинока, то спутника она приглашает или нанимает. В Италии в Средние века таких наемников называли чичисбеями. Дама держала в руках розу, а ее спутник — шпагу. В те времена роза считалась символом женщины, эфес шпаги обозначал крест. Понимаешь?
— Почему же ты не вручила мне шпагу?
— Напоминанием о кресте служит гарота.
— Значит, «Роза и Крест»?
— Да, это знак нашего общества. Человек, которого ты видел рядом со мной, — посвященный рыцарь, Лорд Сенешаль. Он же Кош — хранитель сокровищ. Не спрашивай, откуда у него деньги, одной безделушки из запасников достаточно, чтобы построить дюжину особняков. Нет, он не ворует. Он уверен, что владеет этим по праву. Древние сокровища нуждаются в охране посвященных… Он стережет золото Гипербореев, как грифон, как чудовище Аримасп.
— И чахнет, как Кощей? Зачем ты говоришь мне это, Флора? Чтобы я засадил твоего грифона в тюрьму или убил его в припадке ревности?
— Что бы ты ни сделал, ты лишь исполнишь предначертанное.
— Флора, Флора, ты вела свою игру, ты крутила мною, как пешкой. Расскажи мне все, любая полуправда будет для тебя хуже лжи.
— Хорошо, только не смотри так… То, что ты сегодня видел или мог видеть, там у портика, это древнее приветствие, поцелуй Посвящения.
— Так ты теперь жрица?
— Я не зря выбрала тебя… Севергин.
— Скажи, он знал Ладу?
— Допрос продолжается? — невесело усмехнулась Флора. — Нет, он не знал ее…
— Ну, что ж, прощай, Флора.
Он распахнул дверцу, но Флора порывисто схватила его руку и прижала к своей груди. Это был безотказный прием порабощения его воли.
— Подари мне еще одну ночь. Пусть она будет последней.
— Нет, Флора, этого не будет.
— Погоди, останься. Я все расскажу тебе, и, может быть, ты простишь меня.
— Не унижайся и не торгуйся… — попросил Севергин.
— Прощай, мой Яхонт-Князь, — она в последний раз коснулась его губ. — Постой, я сниму с тебя это! — чуть касаясь его шеи, она развязала узел гароты.
Сжимая в ладонях колючую рабскую перевязь, он остался стоять на ночном шоссе, глядя, как гаснут вдали рубиновые искры.
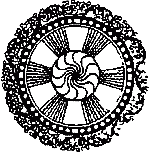
Глава 28
Качели Клио
Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
М. Волошин
Севергин впервые оказался в съемочном павильоне киностудии. Наблюдая, из какого сора растут цветы высокого искусства, Егор только крякал от удивления. В перерывах между съемками он с крестьянской практичностью ощупал бревна «Пустозерского острога», заглянул в слюдяное оконце, потрогал медный урыльник в углу темницы. Над мрачным казематом розовым миражом реяла мечта о Каннах, и Версинецкий гневными воплями и жаркими заклинаньями подгонял запаленную группу к желанному финишу.
Дубль за дублем мятежный протопоп Аввакум клеймил впавших в прелесть иконописцев:
— Слуги Сатанины, блядивые дети! От лютеров научаемы, кощуны окаянные в церквах творят! А все Никон, вонючий пес! Он, он, собака, повелел Пречистую вапой мазать! И поделом суд свершил грешный аз! Все иконы фряжского письма разбил да об головы изломал…
— Стоп камера. Снято! Перерыв на полчаса, — протрубил Версинецкий.
Нервно чиркая зажигалкой и приволакивая ноги в тяжелых лаптях, актер, играющий Аввакума, прошаркал к выходу из павильона.
Завидев следователя, Версинецкий заметно встревожился.
— Здрасьте, здрасьте… Чем обязаны?
— Да вот, решил приобщиться к высокому искусству.
— Не поздновато ли?
— Самое время, и в настоящий момент меня остро интересует та часть фильма, где снималась Лада Ивлева.
— Мы только вчера с натуры вернулись. Есть черновой вариант, масса склеек, грязный монтаж. Вам, как зрителю, это вряд ли понравится…
— Меня не волнует художественное качество.
— А я вот отобедать возмечтал, отдохнуть от трудов праведных, — взгрустнул Версинецкий.
— Так давайте и отобедаем.
— Ну вот и ладушки! Тогда пожалуйте к нам, прямиком «на тот свет».
— Это в каком же смысле?
— В прямом. Мы так называем нашу ресторацию. Там можно встретить кого угодно, к примеру мирно беседующих Петра Первого и Сталина с трубочками в зубах и бывшего гардемарина под ручку с «любимой няней»…
Следователь и режиссер прошли в ресторанчик и заняли столик.
— Ну, право же, аппетит разыгрался! Так… Что выберем? Солененького хочется. Я беременный новым замыслом. — Версинецкий похлопал себя по круглому «пивному животику» и продолжил: — Клио — муза истории — нынче стала замечательной гурманкой. Она смакует большей частью пикантные подробности, забыв про честный черный хлеб и родниковую воду из кувшина истины.
Вот свежий пример. Зачем царские косточки из кремлевских гробниц отправляют в судмедэкспертизу? Яды, любезнейший, яды! Доза сильнодействующих ОВ в них превышает всякие разумные пределы. И чему удивляться, если Иван Грозный держал у себя в дворцовых покоях чашу с ртутью, а набожный и благочестивый Алексей Тишайший собственноручно угощал своих гостей бокалом с какой-то гремучей смесью, и сам умер от медленного отравления свинцом.
Версинецкий с аппетитом уминал обед, успевая одаривать следователя своей потрясающей эрудицией в области исторической кухни.
— Если честно, я мечтал снять фильм совсем о другом времени, но по желанию спонсирующей стороны, то бишь госпожи Плотниковой, я спешно оставил клокочущий котел современности и погрузился в семнадцатый век, в царствие Алексея Тишайшего: яркое, страшное и кровавое время, где смешались и высшая святость, и невероятные злодейства. И если Петр Первый, по словам Пушкина, «Россию поднял на дыбы», то взнуздал строптивую кобылку его батюшка — Алексей Михайлович.

