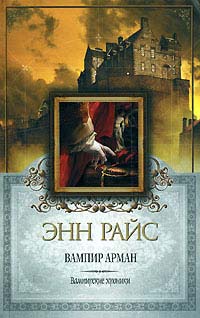
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел
к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
Евангелие от Иоанна. 20:17
Бранди Эдвардсу, Брайану Робертсону, а также Кристоферу и
Мишель Райс
Часть I - Плоть и кровь
Глава 1
Говорили, что на чердаке умер ребенок. Его одежду нашли в
стене.
Мне хотелось подняться туда, лечь у стены и остаться одному.
Иногда здесь встречают привидение – призрак ребенка. Но
никто из вампиров, как правило, призраков видеть не умеет, во всяком случае,
так, как я. Не важно. Ребенок меня не интересовал. Я не искал общества ребенка.
Мне просто хотелось побыть там.
Оставаться и дальше рядом с Лестатом бесполезно. Я пришел. Я
выполнил свой долг. Я ничем не мог ему помочь.
Взгляд его пронзительных, сосредоточенных, застывших глаз
заставлял меня нервничать, лишал присутствия духа, хотя в глубине души я
оставался спокойным, меня переполняла любовь к близким – к моим смертным детям,
темноволосому Бенджи и нежной, гибкой Сибил, но у меня пока не хватало сил их
забрать.
Я ушел из часовни.
Я даже не обратил внимания на остальных. Весь монастырь
превратился в обитель вампиров. Не то чтобы он казался диким или заброшенным,
но я не заметил, кто оставался в часовне, когда я уходил.
Лестат по-прежнему лежал на мраморном полу часовни перед
огромным распятием. Поза его оставалась неизменной: на боку, с расслабленными
руками, левая ладонь накрывает правую, и пальцы ее при этом слегка касаются
пола – как будто намеренно, хотя ни о каких намерениях и речи быть не могло.
Пальцы правой руки изогнулись, образовав впадинку в ладони там, куда падал
свет, что тоже казалось осмысленным жестом, хотя никакого смысла здесь не было.
В течение многих месяцев Лестат пребывал без движения,
превратившись в безвольное сверхъестественное тело, однако выражение его лица
было почти вызывающе разумным.
Перед рассветом высокие витражи надлежащим образом
зашторивали, а по ночам в них играли отблески чудесных свечей, расставленных
между изящными статуями и реликвиями, наполнявшими этот когда-то освященный
дом, где под высокими сводами дети слушали мессу.
Теперь оно принадлежало нам. Ему – Лестату, мужчине,
лежавшему без движения на мраморном полу.
Мужчине. Вампиру. Бессмертному. Сыну Тьмы. Любое из этих
слов отлично ему подходит.
Оглянувшись на него через плечо, я, как никогда,
почувствовал себя ребенком. Такой я и есть. Я вписываюсь в это определение, как
будто оно во мне закодировано, как будто это единственно возможная для меня
генетическая схема.
Когда Мариус сделал меня вампиром, мне было, наверное, лет
семнадцать. К тому моменту рост мой составлял пять футов шесть дюймов и весь
последний год оставался неизменным. У меня были изящные, как у женщины, руки и
по-детски чистое лицо – я, как мы выражались в то время, в шестнадцатом веке,
был безбородым. Не евнухом, нет, конечно нет, отнюдь, но совсем еще мальчиком.
В те времена красота юношей ценилась в не меньшей степени,
чем прелесть женщин. Только теперь мне кажется, что в этом есть какой-то смысл,
и то потому, что я люблю своих собственных детей: по-девичьи длинноногую Сибил
с грудью женщины и Бенджи с круглым напряженным арабским личиком.
Я остановился у подножия лестницы. Никаких зеркал – лишь
потемневшие от сырости высокие кирпичные стены с ободранной штукатуркой; только
в Америке такие здания могут назвать старинными. Знойное новоорлеанское лето и
сырая, промозглая зима – зеленая зима, как я ее называю, потому что листья с
деревьев здесь практически не опадают, – наложили на все свой отпечаток.
По сравнению с обычным для этого города климатом в стране,
где я родился, царила, можно сказать, вечная зима. Не удивительно, что в
солнечной Италии я совершенно забыл о своих истоках и с легкостью принял тот
образ жизни, которому следовали в доме Мариуса. «Я не помню» – эта формула
стала своего рода заклинанием. Только при этом условии можно было так полюбить
порок, так пристраститься к итальянскому вину, обильным трапезам и даже к
ощущению теплого мрамора под босыми ногами, когда комнаты палаццо Мариуса самым
грешным, безнравственным образом отапливались бесчисленными каминами.
Его смертные друзья – когда-то и я принадлежал к их числу –
без конца бранили его за расточительство: за излишние траты на дрова, масло,
свечи. А Мариус признавал только самые изысканные свечи, из пчелиного воска.
Для него имел значение каждый аромат.
«Прекрати думать об этом, – уговаривал я себя. –
Отныне воспоминания не должны тебя ранить. Ты пришел сюда ради дела. Теперь с
ним покончено, пора найти тех, кого ты любишь, – юных смертных, Бенджи и
Сибил, – и жить дальше».
Жизнь уже не театральная сцена, где вновь и вновь появляется
и со зловещим видом сидит за столом призрак Банко.
Душа у меня болела.
Пора подняться наверх. Отдохнуть немного возле кирпичной
стены, где нашли детскую одежду. Лечь рядом с ребенком, убитым в монастыре, как
утверждают сплетники-вампиры, новые призрачные обитатели этих залов, пришедшие
посмотреть, как спит сном Эндимиона великий Вампир Лестат.
Я не ощущал запаха убийства – слышал лишь нежные голоса
монахинь.
Я поднялся по лестнице человеческим шагом. За пятьсот лет я
научился этому в совершенстве. Равно как и умению пугать молодежь – как
постоянных обитателей этого дома, так и случайных посетителей – не хуже любого
из Старейших. Даже самые скромные из них не упускают случая продемонстрировать
свой дар телепатии или способность мгновенно исчезать, словно растворяясь в
воздухе, а то и слегка сотрясти стены в восемнадцать дюймов толщиной с
нетленными кипарисовыми подоконниками.
Ему должны понравиться эти запахи, подумал я. Мариус... Где
он? Прежде чем поговорить с ним, я предпочел навестить Лестата, а потому мы
успели обменяться лишь несколькими вежливыми словами, когда я оставлял на его
попечение свои сокровища.
Ведь я привел в логово бессмертных своих детей, ибо кто
способен защитить их лучше, чем мой любимый Мариус, – такой
могущественный, что никто здесь не посмеет перечить ему.

