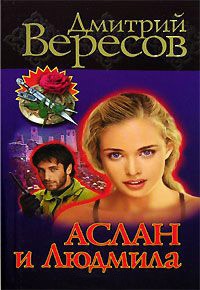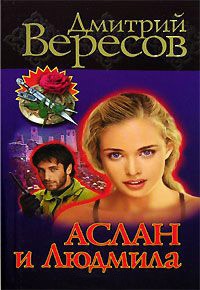
Пролог
Мы — роковые глубины,
Глухонемые ураганы, —
Упали в хлынувшие сны,
В тысячелетние туманы.
И было бешенство огней
В водоворотах белой пены.
И — возникали беги дней,
Существований перемены
Мы были — сумеречной мглой,
Мы будем — пламенные духи.
Миров испепеленный слой
Живет в моем проросшем слухе.
Андрей Белый
1926 год. Париж
— Исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в заброшенном людьми и даже Богом монастыре, в старинном российском захолустье! Чтобы пахло от монаха луком и квасом, и рясой, давненько не стиранной… Затрепетать от неземной, таинственной власти его, унизиться перед ним, как перед Богом… почувствовать его как отца… Вот чего бы я желал больше всего в этих Парижах хваленых, будь они не ладны…
Так говорил Иван Иванович Яковлев, когда-то аристократ, помещик, заводчик известной на всю Россию породы рысаков, а теперь в Париже — тусклый старичок, похожий на заварной фарфоровый чайник с отбитым носиком и чужой, не в тон, крышечкой.
— Где же вы нос себе расквасили, Иван Иванович? — спрашивала его хозяйка квартиры, бывшая фрейлина Ее Императорского Величества княгиня Вера Федоровна Кушнарева, нынче же — сухонькая бабулька, правда, с балетной осанкой и живой, заинтересованной улыбкой. — Неужто так молитвенные поклоны неаккуратно отбивали? Или подрались с кем? С либералом, должно быть? Не конфузьтесь, Иван Иванович, здесь все свои.
— Так все там же, матушка, — отвечал Яковлев, поправляя свой салатного цвета берет, который скрывал все еще переживаемое им отсутствие серебристой гривы светского льва, — все там же, на лестнице у мадам Дюмаж, в ее чертовом пансионе. Разве можно экономить на лестницах, господа? Черт знает, какая узость и темень! А вы помните, Вера Федоровна, петербургские парадные лестницы? Мрамор, позолота, ковровая дорожка, слепящий свет! А главное — зеркала!.. Ведь я говорил этой скряге, мадам Дюмаж — всего одна лампочка или свечка и несколько зеркал, правильно расположенных, и вся лестница будет освещена. Кажется, так Кулибин осветил императорские покои? А, Вера Федоровна?
— Помилуйте, Иван Иванович! — замахала на него руками княгиня Кушнарева. — Вы уж совсем меня состарили. Туманно намекаете, что я еще при Екатерине служила? Что я — живая история? Видать, здорово вы на лестнице головой треснулись.
— Как вы могли подумать такое, сударыня?! — воскликнул смущенный Яковлев, не замечая веселого притворства в негодовании бывшей фрейлины. — Не к возрасту вашему обращаюсь, а к… а к…
Иван Иванович совсем сбился, «акнул» еще пару раз, но тут заметил, что хозяйка не сердится, а потешается над ним. Действительно, видно, здорово он треснулся головой, раз мог усомниться в добром характере Веры Федоровны. Ее небольшая квартирка в Паси уже несколько лет гостеприимно принимала русских эмигрантов, которые ради скромного чаепития, но с добрыми словами и улыбками вприкуску, раз в неделю шли к несуразному серому зданию, высота которого в несколько раз перекрывала ширину переулка.
Каждый раз, сдержанно ругаясь, эмигранты задевали полами пальто жестяной мусорный бак у самого подъезда, так щедро освещенный газовым фонарем, словно это была главная достопримечательность переулка. Вера Федоровна иногда, не к чаю, разумеется, говорила, что местный мусорщик — настоящий английский шпион и в мусорном контейнере отправляет шифрованные, очень дурно пахнущие донесения.
Княгиня Кушнарева потеряла в гражданскую войну единственного сына, который погиб где-то на Соляных озерах Манычского фронта. Вера Федоровна плохо представляла, где проходил такой фронт, но откуда-то узнала, что белые там воевали против Конной армии Ворошилова и Буденного. Именно этих большевистских вождей Кушнарева ненавидела. На остальных в ее добром сердце ненависти не хватало, она их просто игнорировала.
Она очень быстро обеднела в эмиграции, званые обеды становились все скромнее, пока не заменились чаепитиями. Но отказать себе в приеме милых сердцу гостей Вера Федоровна не соглашалась ни за что на свете. Она говорила, что сейчас, после большевистского потопа, они уже причалили своим ковчегом к горной вершине Арарата. А раз они в горах, то следует соблюдать законы гор, особенно горского гостеприимства. Недаром ее бабушка была грузинской княжной.
В свете апельсинового абажура, покачивающегося на сквозняке от часто открываемых гостеприимных дверей, можно было различить много известных лиц русской эмиграции: депутатов Госдумы, политических деятелей, художников, писателей. Сюда захаживали Струве и Бурцев, здесь имели свои именные места в креслах и на диванах Малявин и Судейкин, наблюдали за уходящими типажами русской истории Алданов и Куприн. В последнее время, правда, приемы Веры Федоровны не были богаты на знаменитые фамилии, и это ее несколько расстраивало.
Пока Иван Иванович щедро отвешивал попахивающие нафталином комплименты Кушнаревой, заглаживая свою неловкость, она украдкой подмигивала гостям и, как заправская актриса, изображала постепенное смягчение женского сердца.
— Какой стиль, Иван Иванович! — говорила она. — Это прямо Надсон какой-то или даже Бальмонт! Mail il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en nombre!
[1]
Где же наш Алексей Николаевич? Будет ли он сегодня? Никто, господа, не слышал?
— Как же, Вера Федоровна, — отозвался Леонтий Нижеглинский, некогда профессор Петербургской консерватории, теперь же заправский тапер в синематографе «Etoile», — писатель Толстой поехал сегодня по буржуям. Я сам слышал, как он кому-то говорил нарочито громко: «Поеду сегодня ко всякой сволочи ужинать!» Представьте, так и сказал: «всякой сволочи».
— Что делать? — Вера Федоровна грустно вздохнула. — Алексей Николаевич любит вкусно поесть. Простим ему этот не самый страшный грех…
— Как хотите, Вера Федоровна, — вставил словечко прощенный Яковлев, — только плут ваш Толстой. Алешка он и больше никто. Я его так и называю — Алешка, хоть он и писатель из Толстых. Других Толстых люблю, Алексея Константиновича, как святого, почитаю, а этого… Алешка!
Теперь Иван Иванович поддразнивал Кушнареву, как бы мстя ей за минуты неловкости и наказание комплиментами.
— Перестаньте, Иван Иванович, я на вас рассержусь.
— Алешка! Алеха! Лексейка! Леха! — не унимался Яковлев, пока брови Веры Федоровны не опустились до самой нижней позиции, что означало начало серьезной обиды.
Яковлев хорошо знал эту границу и вовремя унялся. Обижать Веру Федоровну в русской эмигрантской среде было не принято.
— Вы прямо ему адвокат какой-то, — сказал Иван Иванович примирительно. — А вот не знаете, какую он штуку авантюрную недавно выкинул. Сам мне и рассказывал, гордился. Рассказать, что ли, Вера Федоровна?