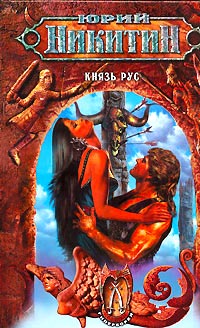
Часть первая
Глава 1
Плотная стена пепла и пыли поднялась от черной земли,
перегородила мир и мощно уперлась в синее небо. Лишь когда редкий ветерок
сдвигал ее в сторону, проступали как страшные призраки серые костлявые
животные, усыпанные пеплом, жуткие в неподвижности всадники и похожие на гробы,
оплетенные серебряной паутиной крытые повозки.
Но ветер затихал, и снова из пыльной тучи скрипели колеса,
тоскливо ревел скот, щелкали бичи. Длинная цепь телег тянулась по выгоревшей
земле, людей сотрясал сухой кашель, все выплевывали серые комья, задыхались,
проклинали бога степных пожаров. Чех трижды велел останавливаться, ждали
отставших. А его младшие братья, Лех и Рус, носились на конях впереди, искали
языки земли с травой, которую миновал степной пал.
Но еще больше сердца сжимались, когда облако пыли вздымалось
позади. Мужчины хватались за оружие, изможденные лица мрачнели. Последняя сотня
разом останавливалась, поворачивалась к нарастающему гулу. А женщины
нахлестывали измученных коней и волов, те тоскливо и надсадно ревели, но шагу
не прибавляли.
Из желтого облака выныривал то табун диких коней, то стадо
туров, и мужчины спешили догнать повозки. Надо помогать тащить, толкать сзади,
хвататься за колеса, ибо волы и кони отощали так, что ребра едва не прорывают
шкуру. Бедные звери едва тащат самих себя.
Лето только началось, но жара сожгла землю, траву и даже
воздух. Когда сворачивали в лес, под сень вековых деревьев, там вместо прохлады
натыкались на стену спертого воздуха. Скот, что тащился из последних сил, падал
без сил. Трупы попадались на каждом шагу. А уцелевшие животные, зачуяв
воду издали, мчались к ней как ошалевшие, опрокидывали повозки, выкидывая
женщин и детей, топтали копытами.
Коней берегли особо, но, к ужасу беглецов, начали падать
даже они. Ночами не давали спать комары, их расплодилось видимо-невидимо. Днем
душил мощный запах живицы. Из-за небывалой жары деревья просто истекали ею,
воздух заполнился вязким горьким запахом.
А на сороковой день Исхода даже ночью жара не спадала.
Кони храпели и рвались с поводьев. В гнездах кричали разбуженные птицы.
Люди у костров со страхом всматривались в ночную тьму.
– Знамение, – сказал кто-то шепотом.
– Чуют, – ответил другой тоже тихо.
– Людям дан разум, а скотине боги дали чутье…
– Беда настигает! Всем нам смерть.
– Неужто боги на стороне силы, а не правды?
Рано утром Гойтосир, старший волхв, объявил по всему
измученному отряду:
– Мы уже идем по чужим землям. Здесь другие боги. И кто
знает, чего они жаждут.
Суровое лицо, темное от ударов ветра, мороза и ливней, было
иссечено глубокими морщинами, но глаза под нависшими седыми бровями горели
мрачным огнем решимости. Высокий, он и в свои семьдесят весен держал спину
прямой, с коня в повозку почти не пересаживался, и всякий зрел, что бывший
воин-поединщик и ныне бьется за племя. Теперь уже – с чужими богами.
Чех с высоты своего исполинского белого коня угрюмо
оглядывал растянувшуюся на версты колонну. Он был в расцвете мужской силы,
гигант с золотыми волосами, красиво падающими на плечи. А плечи настолько
широки, что приходилось поворачивать голову, чтобы видеть то одно, то другое.
Мощные пластины груди казались выкованными из светлой меди, а в спокойно
лежащих на луке седла руках, толстых, как стволы молодых ясеней, чувствовалась
несокрушимая мощь. На плече зеленел лист подорожника, середина стала коричневой
от засохшей крови. Еще две небольшие раны, почти зажившие, были на груди.
Коричневые струпья отваливались, обнажая свежие багровые шрамы под тонкой
пленкой молодой кожи, под которой пульсировало красное мясо.
– Жертву? – проронил он густым, сильным голосом.
– И поскорее, – подтвердил Гойтосир.
– Обряды?
– Боги подскажут, – ответил Гойтосир уклончиво.
Остановившись на ночь, они стащили в кучу два десятка сухих
стволов. Чех с младшими братьями сам выбирал скот, самый исхудавший, а на
вершину положили самое дорогое, что есть у любого племени, – трех
младенцев.
Когда оттаскивали плачущих матерей, те пытались броситься в
огонь вслед за детьми, Чех пробурчал, ни к кому не обращаясь:
– Все равно бы не выжили. Двое мечутся в жару, а у матери
третьего молока не больше, чем в огне воды.
Лех и Рус смотрели со страхом и восторгом. Их старший брат,
рискуя вызвать гнев богов, отдавал им слабых, а сильных берег, в то время как
их отец Пан всегда приносил в жертву самых здоровых и красивых, дабы угодить
богам.
Краду подожгли с четырех концов. Огонь занялся сразу так
мощно, что казалось, будто горит сама земля. Пламя гудело торжествующе,
свивалось в огненные жгуты. Сквозь щели в стене огня было видно, как маленькие
тела корчились, вздымали к небу ручки, пробовали перевернуться, уползти от
огня, но детская кожа трещала и пузырилась, наконец вспыхнула слабыми
оранжевыми огоньками. В следующий раз увидели детские тела уже
почерневшими, затем огонь с ревом и гулом начал поднимать кверху уже не искры,
а целые поленья.
Гойтосир отступил от пламени, повернулся к жертвенному
костру спиной. Лицо стало красным от жара. Он торжественно вскинул костлявые
руки:
– Жертва принята!
И снова вздымалась красноватая пыль, исхудавшие волы
тащили расшатанные повозки из последних сил, тоскливо взревывали. Мужчины, что
покрепче, хватались за колеса, видно было, как под темной от солнца кожей
вздуваются жилы. Люди тоже исхудали, но запавшие глаза смотрели упорно, жажда
жизни горела, как багровые угольки под толстым слоем пепла.
Обгоняя повозки, из конца в конец проносились всадники на
легконогих злых конях.
Одна повозка постепенно отставала. Колеса расшатались,
усталые, исхудавшие волы едва не выпадали из ярма, ноги дрожали от усилий. На
старых шкурах в глубине повозки лежал огромный мужчина. Рядом сидела
сгорбленная женщина, веткой отгоняла мух. Целый рой огромных и зеленых мух
сопровождал их последние два дня неотступно, доводил до исступления, не желал
дожидаться, когда можно будет безнаказанно ползать по неподвижному лицу и
откладывать яйца в застывшие глаза, ноздри, уши.
Рус обогнал, он сидел на высоком диковатом жеребце, черном
как ночь Ракшасе, с жалостью кивнул женщине. Мужчина, это был великий воин по
имени Кровавая Секира, не ответил, метался в горячке. Неделю тому в схватке с
чужим племенем дрался против дюжины, всех побил, но был изранен так, что не мог
держаться в седле. На этот раз могучая стать дрогнула: вместо того чтобы раны
зажили так же быстро, как заживали раньше – не зря весь в шрамах, на этот
раз распухали, гноились, из них шло настоящее зловоние. Он метался в жару,
скрипел зубами, постанывал, когда был уверен, что его не слышат.

