И все же Титус, прежде чем торопливо пройти к двери и исчезнуть, на мгновение сжал ее руки.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
День Блистающей Резьбы приближался. Резчики добавляли последние штрихи к своим творениям. Замок изнывал от жгучего нетерпения, умеряемого лишь засевшей в каждом уме страшной мыслью о том, что Стирпайк может в любое мгновение нанести новый удар. Ибо за последние восемь дней пегий негодяй нанес их, точных, уже четыре – и всякий раз возле пробитой головы его жертвы, а то и прямо в ней, над глазами, находили небольшой камушек. Убийства эти, столь низкие в своей бессмысленности, совершались в местах, до того удаленных одно от другого, что никаких заключений о том, где находится логово негодяя, вывести не удавалось. Смертоносная рогатка его наводила на Горменгаст прилипчивый ужас.
И все-таки, несмотря на этот над всем преобладавший страх, неминуемость традиционного дня изваяний вселяла в сердца обитателей замка волнение куда менее страшное. С облегчением правили они свои помыслы к этой извечной церемонии, как к чему-то, на что можно опереться, – к чему-то, совершавшемуся ежегодно с самой давней из памятных каждому поры. Они тянулись к традиции, как ребенок тянется к матери.
Продолговатый двор, в котором предстояло провести церемонию, отскоблили и затем отскоблили повторно. Всю неделю, восход за восходом, тихий этот двор полнился эхом ведерного лязга, плеском и шелестом воды, криками мойщиков. Особенно безукоризненный вид приобрела высокая южная стена. Помостья, по которым чистильщики сновали, как обезьяны, ковыряясь средь грубых камней, отскребая расселины, вымывая из впадин и трещин остатки скопившейся пыли, убрали. Она уплывала, эта стена, сужающейся перспективой мерцающего камня, – и в пяти футах над землей по всей длине ее выступала во двор полка Резчиков. Ширина этой полки, или контрфорса, была такова, что на ней с удобством размещалось даже самое крупное из раскрашенных изваяний. Приготовляясь к великому дню, ее уже выбелили, как выбелили на дюжину футов в высоту и стену над нею. Растения и ползучие побеги, сумевшие за последний год пробиться между камней, обрезали, как обычно, заподлицо со стеной.
Сюда, в этот до столь ненатуральной опрятности отчищенный двор Резчикам из Наружных Жилищ предстояло влиться, подобно темной, неровной волне, неся деревянные статуи в руках или на плечах – либо, если изваяние оказывалось неподъемным для одного человека, прибегая к подмоге домашних; и дети будут бежать пообок, босые, с упавшими на глаза черными волосами, и высокие их голоса пронзят, точно стилетами, тяжкий воздух.
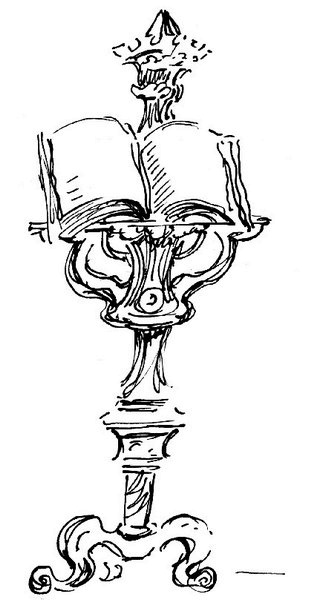
Ибо воздух наполняла гнетущая тяжесть. Немногие жаркие дуновения, что веяли в нем, казалось, раздувались заплесневелыми крыльями огромных и хворых птиц.
Страх перед Стирпайком еще усиливался этой духотой – и с тем пущим нетерпением предвкушалась церемония Блистающей Резьбы, ибо возможность обратиться к тому, чего единственным назначением была красота, сулила отдохновение душе и уму.
Но при всей виртуозности своего мастерства, при всем ритмическом очаровании изваяний, ревнивые создатели их не переносили друг друга на дух. Соперничества семейств, давние обиды, сотни жестоких ссор – все вспоминалось в ходе этой ежегодной церемонии. Заново бередились и растравлялись старые раны. Красота и горечь выступали бок о бок. Старые клешневидные руки с растрескавшейся за долгие годы неблагодарного труда кожей, держали наотлет изысканную деревянную птицу с расправленными для полета тонкими, как бумага, крыльями, с горящим на груди малиновым пятном.
К предпоследнему вечеру все уже было готово. Поэт, окончательно утвердившийся на посту Распорядителя Ритуала, произвел вместе с Графиней последний смотр. На следующее утро ворота Внешней Стены распахнулись, и Блистательные Резчики выступили в трехмильный путь ко Двору Изваяний.
И с этой минуты день распустился, как розовый куст с сотней соцветий и тысячью шипов. Серый Горменгаст напитался кровью, насытился золотом, продрог от синевы, многоразличной, как синь цветов; воды его испятнались оттенками вечной зелени, простиравшимися от мягчайшего оливкового до смарагдового, наполнились охрой, воспламенились и затлели, содрогаясь от красок воздуха и земли.
И раздражительные, чумазые скудоимцы стояли, держа в руках тяжелые статуи. К вечеру длинную каменную полку заполнили красочные фигуры – птицы, звери, воплощенья фантазии, гигантские кузнечики, рептилии, ритмы листвы и цветов, сотни голов, повернутых на шеях, свешенных или поднятых с гордостью, какой и не видано было никогда в живых головах из плоти и крови.
Так стояли они долгой, жаркой чередой, отбрасывая тени на южную стену. Из всех изваяний предстояло выбрать троицу самых оригинальных и совершенных и присоединить их к тем, что хранились в редко кем посещаемом Зале Блистающей Резьбы. Прочие надлежало в тот же вечер спалить.
Судейство было делом длительным и кропотливым. Резчики, посемейно сидевшие на корточках посреди двора или подпиравшие противоположную стену, наблюдали за судьями издали. Час за часом тянулись роковые труды, сопровождавшиеся лишь выкриками и плачем десятков мальчишек. Часов около шести слуги вынесли во двор длинные столы и расположили их встык, в три ряда. Затем столы уставили хлебами и мисками с густым супом.
Когда опустились сумерки, судейство уже почти подошло к концу. Небо затянулось тучами, непривычная тьма окутала двор. Воздух уплотнился до нестерпимости. Беготня детей прекратилась, хотя в другие годы они неутомимо носились по двору почти до полуночи. Теперь же дети, непривычно тихие, сидели близ матерей. Даже руку поднять невозможно было без того, чтобы не устать смертельно и не облиться потом. Многие лица были задраны к небу, где тучи, ярус за ярусом, словно крона какого-то баснословного кедра, сбивались в угрюмые континенты.
Титус по молодым годам его непосредственно в выборе «Троицы» не участвовал, но окончательное решение судей требовало формального его одобрения. Он беспокойно слонялся вдоль череды статуй, пронизывая скопления людей, почтительно расступавшихся при его приближении. Тяжесть железной цепи на шее и камня, ремешком удерживаемого на лбу, все возрастала, становясь почти нестерпимой. Юный граф углядел Фуксию, и тут же опять потерял ее в толпе.
– Надвигается страшная гроза, мой мальчик, – произнес за его спиной голос. – Клянусь всем, что есть проливного, надвигается, и с наивеличайшей определенностью!
То был Прюнскваллор.
– Смахивает на то, доктор Прюн, – отозвался Титус.
– И смахивает, и более чем походит, мой юный охотник на злодеев!
Титус взглянул на небо. Казалось, оно обезумело. Оно вспухало и видоизменялось, словно движимое не каким-то там ветром или воздушным потоком, но собственными нечистыми влечениями.
То было грязное небо, и оно все разрасталось. Небо, впитавшее слякоть жарких трущоб преисподней. Титус отвел глаза от его неизъяснимой угрозы и снова взглянул в лицо Доктора. Оно поблескивало от пота.

