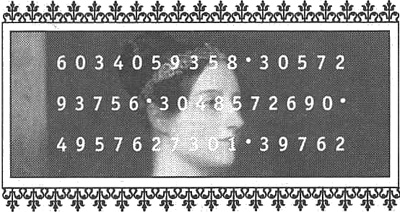Всей душой,
Ли
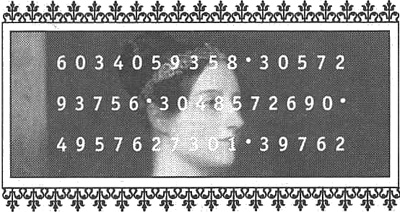
Глава двенадцатая,
содержащая возвращение к Началу, насколько это возможно
На побережье Эпира, в порту Салора, в полдневные часы рыбаки чинят сети или же вместо того дремлют в тени перевернутой лодки, покуривают трубки и возносят молитвы одному Божеству либо нескольким (по меньшей мере — Аллаху и Деве Марии), дабы избежать любого гнева свыше. Их прародители поступали точно также и возлагали жертвоприношения равными долями на разные Алтари. Однажды к этому побережью, распростертому под голубым куполом, — к побережью, мало отличимому от прочих (Корабли появляются здесь редко, и еще реже ступают на берег те, кто незнаком здешним рыбакам), — причаливает лодка, с которой сходит на берег молодой человек, — он одет по-европейски, однако обращается с приветствием на албанском языке (хотя и запинаясь), а не на языке Неверных. Рыбаки отвечают, но юноша как будто не слышит ничего — он оглядывается по сторонам, словно только очнулся ото Сна и не вполне убежден, вправду ли вокруг него существует осязаемый мир. Зачем он здесь? Он намерен, сообщает юноша — скорее самому себе, для собственных ушей — совершить путешествие на север, в страну жителей Охриды, — ему нужен проводник, два-три спутника, лошади — и рыбаки направляют его туда, где можно об этом сторговаться. Больше юноша не показывается — но едва проходит день, как рыбаков вызывает из праздности новое диво: другой молодой человек, также в европейской одежде, вступает на их забытый берег — и задает вопросы, Ответы на которые рыбакам известны — хотя они и переглядываются в изумлении, — а когда юноша скрывается, немногие христиане в растерянности осеняют себя крестом, словно их посетило сверхъестественное существо.
Первым из этих незнакомцев был, разумеется, наш Али: сюда, на этот полуостров — на землю Эллады — он добрался, полгода спустя, дилижансами — как к последнему месту назначения, определенному Судьбой. Покинув английский берег вследствие своего слишком успешно исполненного долга на поле Чести, он высадился поначалу на побережье Франции, где в стылой комнатке самой захудалой Гостиницы написал письмо Катарине и Уне: он желал довести до сведения Супруги, что оборонял свое имя от клеветы, в суть которой не станет ее посвящать, и к чему это привело; Дочери он хотел передать, что, хотя они и не виделись, его любовь к ней нескончаема и когда-нибудь он снова обнимет ее и поцелует. Далее Али передал мистеру Пайперу все наивозможные Полномочия и» Права, какие только сумел измыслить — не имея под рукой свода Законов, — с тем, чтобы добыть от Банкиров и Посредников средства, необходимые для длительного путешествия, — он уже тогда замыслил отправиться в дальний путь, не зная, когда из него вернется, — если странствия будут ограничены бренным сроком, то, видимо, не затянутся, — так думал Али, поскольку свеча его угасала, а дыхание таяло в воздухе дымком.
Выехав из Франции верхом, он в одиночку миновал Нидерланды и, почти незаметно для себя, оказался на поле Битвы, отмеченном Монументом, а еще более — богатым Урожаем, который был вскормлен разложением тел, столь щедро разбросанных тут не столь давно. Ватерлоо! Я не стану вновь чтить твою память — и того человека (бывшего и чем-то большим, и меньшим, нежели обычный Человек), который швырнул все приобретенное им для Человечества на этот зеленый стол только для того, чтобы добычу выхватили другие Игроки — единственная рискованная Ставка, им проигранная! Али погрузился в размышления, ненадолго оторвавшись от мыслей о собственном уделе ради мыслей об уделе Людского Рода, и ему пришло в голову — это не было продиктовано ни Гордостью, ни Тщеславием, а всего лишь минутной прихотью, — что вся разница между ним и тем великим человеком состоит в том, что он растратил меньшее богатство, но чувство вины от этого испытывает не меньшее. Али не «поразил тысячи» и уж тем более не «десятки тысяч» — он сразил своею рукой одного-единственного человека — однако же nos turba
[46]
, и один или двое из числа смертных — уже множество, и, когда кровь льется потоком, страдания одного, кому они даются по его силам, не уступают страданиям многих — правило умножения здесь не действует, ибо каждый из нас страдает и умирает в одиночку, хотя возрастаем и процветаем мы совместно — спросите у индийского гимнософиста, как это возможно — но это так!
Али покинул поле сражения — пересек Рейн — взошел на Альпы — видел Лавину — стремительный горный поток — Глетчер, — но, поскольку среди этих картин оставался самим собой, не отдаваясь им Душой, то не обрел чаемого спокойствия. Передвигаясь таким образом — то в седле, то на корабле, то пешком, — он добрался наконец до берегов, мной описанных, — до дома: слово, неведомое ему ни на одном языке и ничего не говорившее его сердцу.
Али отправился из Салоры с несколькими сопровождающими — и провел немало дней в седле, ночуя где придется и питаясь чем попало (и то и другое мало его заботило), прежде чем веяние ветерка, клочки облаков, неподатливость почвы пробудили в нем дремавшие до того чувства. Однажды вечером над Али, как если бы небесные мстители преследовали его от прежнего жилища, простерлась громадная серая туча, и он ощутил на заросшем бородою лице ледяное дуновение, пронизывавшее его до костей на Солсберийской равнине. Едва он нашел кое-какое укрытие на старом турецком кладбище, как буря разразилась с невиданной силой — хлестал ливень, а раскаты грома гремели величественно и грозно, словно Господь корил Иова, напоминая тому о его малости и о всемогуществе Создателя. Когда грандиозная вспышка молнии озарила надгробия и когтистые ветви деревьев, Али увидел перед собой (или же так ему почудилось) еще одну, чужую фигуру — не из числа его спутников — фигуру Разбойника или Грабителя, хоть они и не действуют в одиночку — но при следующей вспышке ее и след простыл!
В Янине Али расплатился и распрощался со своим драгоманом и со слугами, снял европейское платье и вместо него облачился в туземное одеяние. Заткнул за широкий кожаный пояс меч, когда-то подаренный ему пашой, — меч, привезенный из Англии, теперь далекой и неосязаемой, будто сновидение. Далее Али пустился в путь один и поднялся с равнины к подножию албанских гор, очутившись в один из вечеров на перевале, откуда открывался вид на Столицу того самого паши, которому он когда-то служил и чей меч носил на поясе. Закатное солнце золотило минареты, недвижный воздух отдавал тленом, каменистая дорога оставалась той же, что и прежде, — но сам город переменился. Владычество паши подошло к концу — и там, где некогда в ожидании его Милостей собирались толпы просителей — где в темных накидках расхаживали турки, доставлявшие послания от султана, — где сновали чернокожие рабы и выступали покрытые попонами кони под мерную дробь огромных Барабанов и выкрики мальчиков с Минарета, — теперь царило безмолвие, внутренние дворы пустовали, и лишь кое-где торчали мнимые калеки, слишком обнищавшие или слишком ленивые, чтобы подыскать себе иное занятие, да ковыляли хромые клячи — и это там, где некогда высоко вскидывали головы и позвякивали упряжью 200 иноходцев паши!