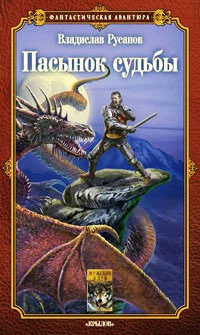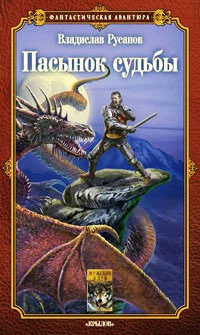
Посвящаю книгу моей жене
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОЛЕШЕК ИЗ МАРИЕНБЕРГА
В тот год, когда верующие справляли шестьсот восемьдесят четвертую годовщину со Дня рождения Господа нашего, Пресветлого и Всеблагого, лето выдалось на удивление холодным и дождливым…
Так, наверное, хорошо начинать эпическое повествование о подвигах и приключениях, о великих сражениях и знаменательных победах. Ну, на худой конец, длинную поэму в стихах о несчастных, разлученных злой судьбою любовниках.
Однако Годимир даже не пытался замахнуться на сколько-нибудь значительное произведение словесного искусства. Ни прозаическое, ни рифмованное. Хотя стихи писать пробовал неоднократно, и даже канцоны
[1]
норовил сочинять с тем, чтобы посвятить их очередной панне сердца. А панн сердца, следует заметить, у него было достаточно много, поскольку, избрав нелегкий путь странствующего рыцаря, пригожий и крепкий телом юноша должен быть готов к испытаниям еще и подобного рода. В данный момент носил он на левом плече шарф зеленого цвета с вышитыми золотой нитью листочками канюшины — дар некой пани Марлены из Стрешина, покровительницы изящных искусств и супруги тамошнего воеводы.
Но одно дело — элегия или баллада, и совсем другое — поэма или, как говорят шпильманы
[2]
, песнь. Тут нужно мастерство, отточенное с годами, и, самое главное, много свободного времени. Да, еще немаловажный атрибут успешного труда с пером и пергаментом — крыша над головой, и не где-нибудь в хлеву, крытом соломой, а, желательно, уютная комната с жарко натопленным камином. А если ко всему этому прибавить теплый плед на ногах и чашу подогретого и сладкого вина, то зависть соперников-стихотворцев, восхищение панночек и жгучая ревность их мужей гарантированы.
По крайней мере, пан рыцарь Годимир свято в это верил.
Вот только чаще ему доводилось проводить время не в тепле и уюте, а в сырости и поскрипывающем дорожном седле. Одна была надежда на летнее тепло, отдых в душистом стогу где-нибудь на славящихся укосом лугах Заречья — края богатого и обильного — в обществе восхищенных рыцарскими подвигами поселянок, а то и какой-нито благородной панянки. А если не одергивать коня-мечту, то в грядущем маячит даже встреча с королевной, благо между реками Словечной и Оресой каждый пан, чьи владения простираются больше, чем на три дня пути, носит королевский титул…
Но вместо этого… Выбор — ночуй в лесу под дождем или трясись в седле, опять-таки под дождем, с тем, чтобы к утру достигнуть жилья. Просто глаза разбегаются!
Рыцарь сплюнул в сердцах на покосившийся корявый плетень, поглубже натянул вымокший капюшон, настойчиво, правда и без излишней жестокости, толкнул коня шпорами. Жеребец, ставший за утро из темно-рыжего вороным, фыркнул, тряхнул горбоносой головой и нехотя поставил копыто в кажущуюся бескрайней лужу. На самом деле это даже была не лужа, а равномерно залитая мутной водой площадь перед местной корчмой. Туда Годимир стремился всей душой, еще от околицы заприметив отсыревший пучок соломы на длинном шесте. До желанной цели оставалось совсем немного — форсировать водную преграду.
Боевой конь с рыцарем на хребте добрался уже до середины лужи, а вьючный меринок, натягивая чембур
[3]
, только заходил в воду, когда дверь корчмы распахнулась и из нее вылетел человек. Следом выглянули два крепыша — судя по похожим, как горошины из одного стручка, физиономиям, отец и сын.
Выброшенный в три быстрых шага преодолел расстояние между порогом и берегом лужи, но остановиться не сумел, хотя отчаянные телодвижения свидетельствовали, что старался изо всех сил, и ухнул с размаху в жидкую грязь. При этом рыцарь поразился неумелому падению — поджарый, словно охотничий пес, парень вместо того, чтобы упасть на руки, изогнулся неловко и, перекувыркнувшись через плечо, хлопнулся навзничь. Если бы на землю, отбил бы нутро напрочь. Ребятня, мутузящая друг дружку в придорожной пыли, падает сподручнее.
По бескрайней луже пробежала волна, высоко всплеснулась у берегов, вернулась и накрыла несчастного с головой. Только пузыри пошли. Над водой остался лишь продолговатый предмет, в плавных очертаниях которого Годимир различил благородный облик цистры
[4]
.
— Пан рыцарь! — воскликнул тем временем заметивший нового посетителя корчмарь. — Счастлив тот день, когда такой гость переступает порог моей убогой избы! Ясько, что встал столбом? Да помоги же ты ясновельможному пану!
Здоровенный — хоть в телегу запрягай — хозяйский сын опрометью бросился придержать стремя Годимиру. Из лужи донесся выворачивающий нутро кашель. Обладатель цистры вынырнул и стал отплевывать проглоченную воду пополам с соломенной трухой и головастиками.
Годимир спешился.
— Проходи, проходи, пан рыцарь, — суетился хозяин. — Ясько коней обустроит и седло принесет просушиться, и все снаряжение твое тоже… Да заходи же, не стой под дождем, ясновельможный пан, за что нам только с небес наказание такое?
Молодой человек не спеша отстегнул притороченный к седлу меч, взял его под мышку.
— А это что за гусь? — кивнул он на стоявшего по колено в воде и отхаркивающегося парня.
— А-а, лайдак! — отмахнулся хозяин, а Ясько, руки которого были заняты поводьями Годимировых коней, плюнул под ноги в знак глубочайшего презрения. — Шпильманом назвался. По говору вроде благородный господин. Из орденских земель. Ел, пил, ночевал, а как время расплатиться пришло — «я вам песенку спою». Траченная душа! Знаем мы таких — не впервой!
Годимир глянул на «лайдака», но тот гордо отвернулся, изучая затянутое тучами небо, словно был выше мелочных внутрикорчемных свар.
— Эй, приятель, — тихонько окликнул его рыцарь. — Если у тебя плохо с деньгами, могу помочь.
Взгляд мокрого оторвался от созерцания хлябей небесных, и в нем промелькнула заинтересованность.
— Каким же образом?
— Пан рыцарь! — не преминул вмешаться корчмарь, желая напомнить, как следует обращаться к благородному господину.
Но слова его пролетели мимо ушей музыканта.
— Как? — повторил он с нажимом.
— Продай мне свою цистру, — палец Годимира указал на коричневатый, натертый воском бок, даже в пасмурный день лучащийся нежным светом.
Глаза мокрого округлились: