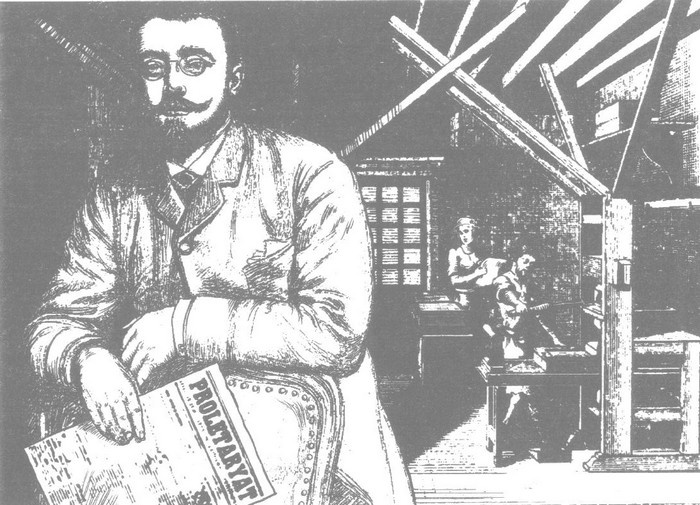Не всегда польские крестьяне и рабочие платили революционеру Фельдблюму той же монетой. Частенько они смотрели на него с подозрением и недоверием, как на чужака. Хотя он говорил по-польски, как поляк, без малейшего намека на еврейские интонации, а зачастую даже чище и точнее, чем любой поляк, в нем — в его лице, очках, изогнутом носе, во всей его высокой интеллигентной фигуре — было мало польского. Уже на фабриках Фельдблюма-старшего, когда Феликс агитировал крестьян-рабочих против своего отца-эксплуататора, люди смотрели на него косо, искали в его словах какой-то еврейский подвох. Священник тоже его останавливал.
— Очень мило, очень похвально, молодой человек, — говорил он ему, — но вы не должны в это вмешиваться.
— Почему? — спрашивал Феликс священника.
— Ну, просто потому, что вы, извините меня за такие речи, чужак, семит, так сказать, который не понимает души христианского народа… Оставьте это нам…
Во время дискуссий между революционерами и патриотами патриоты тоже не раз вставляли колкие замечания по поводу его еврейства. В партии не делали различий между людьми. Здесь все были равны, но и здесь товарищи чаще нагружали его технической и разного рода литературной работой — просили писать статьи для общепартийной газеты, переводить брошюры, — чем допускали к общественности, давали выступать перед рабочими. Народ больше верил в то, что им говорил свой человек, христианин. Когда Феликс в ходе агитации пытался высмеивать попов, рабочие смотрели на него со злобой.
— Еврей не должен касаться этого, — говорили они. — Это святое.
При этом от христиан они спокойно выслушивали гораздо более резкие слова в адрес христианских святынь. Фельдблюму это было больно. Да, он знал, что это пережитки старого мира, которые удастся искоренить со временем, но ему было больно. Кроме того, его тянуло выступать, он чувствовал в себе ораторскую жилку. Домашнее революционерство не устраивало его. Но ему приходилось мириться со своей подсобной ролью. Перед рабочими выступал его друг Кучиньский.
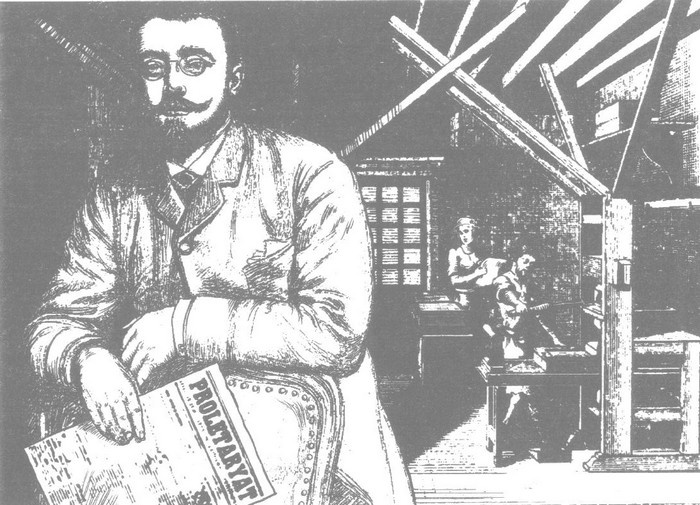
Как и все молодые ассимилированные евреи Польши, Фельдблюм всегда стоял на страже своего неудобного еврейства, готовый защищать его, едва кто-нибудь из иноверцев заденет евреев хотя бы словом. Вот и теперь он вскочил, услышав речи Кучиньского об интеллигентах из ЦК, которые не говорят с польскими рабочими на их языке, а морализаторствуют, как в синагоге.
Нет, в отличие от Кучиньского, Феликс не считал, что только револьвером и бомбой можно говорить с народом. При всей своей чисто польской образованности он, как и большинство евреев, ценил слово и этику и верил в историческую необходимость революции. И он с радостью набирал прокламацию этой поздней ночью. Время было подходящее. Рабочие изголодались, отчаялись и кипели от злобы после тяжелого кризиса, во время которого фабриканты позакрывали фабрики. Кроме того, случилось еще одно событие: несколько лет назад конгресс Второго Интернационала в Париже объявил первое мая праздником рабочих, днем свободы и борьбы. Для Фельдблюма это был первый праздник в жизни. Ни в доме отца, ни в доме дяди он не знал, что это такое. Он хотел, чтобы этот день прогремел и запомнился, чтобы встали все фабрики, чтобы все рабочие в городе оставили работу, сомкнутыми рядами вышли на улицы и показали бы властителям и эксплуататорам свою силу. А заодно продемонстрировали бы и свободу страны, выразили бы протест Польши против порабощения ее царем. И Феликс с большим пылом набирал первую первомайскую прокламацию.
— Они откликнутся на наш призыв, — сказал он Кучиньскому. — Вся Лодзь остановится. Увидишь, что так и будет.
Он вернулся к валику и продолжил печатать прокламации. С глубокой нежностью он гладил эти плохо пропечатанные жесткие листки бумаги. Женщины у печки сушили и расправляли их.
Поздно ночью, когда на улицах было пустынно и мартовские ветры рвали голые ветки немногих раскидистых деревьев Лодзи, похожих на заблудившихся сирот, Фельдблюм ушел домой. Как опытный конспиратор, он хорошенько огляделся, проверяя, не идет ли за ним кто-нибудь. Потом, согласно правилам конспирации, он и его подруга Мария Лихт принялись по одиночке кружить по городу, направляясь домой самым запутанным путем.
— Ты не привела за собой хвоста, Мария? — спросил Фельдблюм черноглазую девушку, пришедшую домой после него.
— Никого за мной не было, — ответила та.
— И за мной никого, — сказал довольный Феликс.
Хотя на своей конспиративной квартире они жили под видом мужа и жены — он торговый представитель, она его супруга, — спали они в разных кроватях и даже не прикасались друг к другу.
— Я бы хотел стать старше на несколько недель и увидеть, как рабочие воспримут наш первый первомайский призыв, — взволнованно сказал Фельдблюм. — Как ты думаешь, Мария, они поднимутся?
— Поднимутся, — уверенно ответила ему Мария.
С улицы уже доносились первые фабричные гудки. В окнах бедных квартир загорались нефтяные лампы. Люди вставали на работу.
Глава седьмая
В мае в городе стало неспокойно.
Рабочие остановили фабрики; но не в первый день месяца, как хотели революционеры; и не в третий, как призывали польские патриоты, считавшие необходимым широко отметить запрещенный национальный праздник
[129]
. Они остановили фабрики пятого мая, в обычный рабочий день.
Почти через год вынужденного простоя предприятия Лодзи заработали в полную силу. Но фабриканты стремились получить компенсацию за тяжелые времена, которые им пришлось пережить, и снизили рабочим жалованье на десять процентов. Настрадавшиеся рабочие, измученные бездельем и голодом, увязшие в долгах, подстрекаемые листовками и агитацией как со стороны революционеров, так и со стороны призывавших к восстанию тайных патриотических обществ, не смирились с понижением жалованья и прекратили работу.
Прекратили ее не все. Забастовщики увещевали тех, кто продолжал работать, ругали их, но те не отходили от станков. С палками и жердями в руках забастовщики ворвались в котельные и принялись портить котлы. Истопники еле уговорили их этого не делать, потому что фабрики от порчи котлов могли взорваться вместе с людьми.
Ткачи, прядильщицы в платочках на головах, каменщики, фабричные извозчики вместе с прибившимся к ним сбродом принялись маршировать по улицам, распевая революционные и патриотические песни. Они шли от фабрики к фабрике, чтобы заставить тех, кто еще работал, присоединиться к забастовке.
Директора работающих фабрик велели охранникам запереть входы и не пускать внутрь толпу; но толпа высаживала ворота и проникала на территории предприятий. Видя это, многие рабочие тут же бросили станки. Упрямым штрейкбрехерам наломали бока и заставили прекратить работу.
— Да здравствуют наши братья рабочие! — раздавались голоса. — Ура!