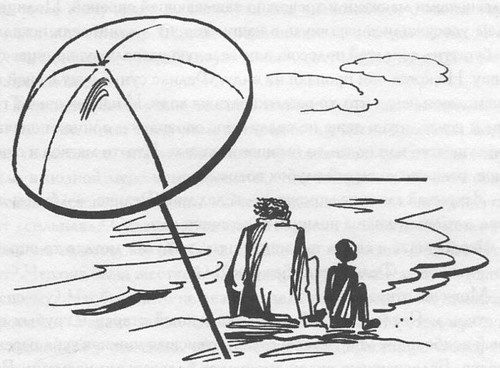И там, на берегу, мне очень хотелось рассказать Феликсу о своей матери. Не просто объяснить для галочки: «Моя мама умерла». Хотелось о ней поговорить. Потому что после того, как я рассказал о Габи и о том, как она влюбилась в отца, меня охватила странная, незнакомая грусть.
Я никак не мог понять, почему Феликс молчит. Непохоже, что мой рассказ ему неинтересен. Скорее, наоборот. Но он не побуждал меня рассказывать, просто слушал — так, как не слушал раньше ни один взрослый, даже Габи. Я понял, что ошибался, когда решил, что он не хочет знать про Зоару. Он просто давал мне рассказать о чем хочу без помех.
И может, из-за того, что он так внимательно слушал, я начал понимать вещи, о которых никогда раньше не думал: что Зоара тоже была живым, настоящим человеком, а не безымянным никем, о котором годами не заговаривали в нашем доме. Была человеком с лицом, телом и настроением, со своими детскими воспоминаниями. С мыслями. С голосом. Она двигалась, смеялась, плакала. Жила.
И еще она была женой моего отца. И он — это вдруг стало ясно мне, как никогда прежде, — любил ее. Только ее — всю жизнь. И больше не смог полюбить никого другого.
Странно, что раньше я этого не понимал. Может, потому, что слышал историю их любви только из уст Габи, а там в центре повествования всегда была она сама. Она, ее любовь и ее разочарования, ее ожидание, что отец наконец перестанет скорбеть и вернется к жизни — то есть к ней. И только сейчас, на берегу, дошло до меня, что именно мой отец — главный пострадавший в этой истории, и именно он по сей день хранит одиночество и траур по Зоаре. Это не просто слова из знакомого рассказа Габи, слова, которые она произносила столько раз, что и сама позабыла, какой болью они наполнены. И с этого часа меня начал мучить вопрос: как мог отец столько лет молчать и даже мне не рассказать о ней ни слова? А я ведь уже не младенец. Бар-мицва — это совершеннолетие.
И почему я ни одного-единственного разу ни о чем его не спросил? Может, если бы я спросил, он бы рассказал. Может, он ждал инициативы от меня. Я мог начать с какого-нибудь невинного вопроса, например, когда мы еще вместе чинили нашу Жемчужину. Пока мы ее чистили и наглаживали, я мог бы наклониться к колесу, к белой полосе, оставшейся со времен затемнения, и спросить оттуда что-нибудь, ну, например, как они познакомились с мамой, и чем занимались вместе, и от чего она умерла; а если бы он не захотел отвечать, мог бы просто сделать вид, что не услышал. Почему я его не спросил? И каким вопросом можно прервать молчание, продолжавшееся тринадцать лет? Наверное, сейчас уже слишком поздно.
— Я ничего о ней не знаю, — одними губами сказал я Феликсу. Феликс только наклонился ко мне поближе, но не произнес ни слова. — Мне ничего о ней не рассказывали.
Горло сдавило, будто тисками, в глазах закололо. Наверное, если опустить голову в волны, станет легче. К таким разговорам на суше у меня нет привычки.
Как-то раз между отцом и Габи разразился спор — стоит мне рассказывать или нет. Я сидел в другой комнате. Мне было лет пять. Отец кричал в гневе, что дети бывают несчастны, даже если у них есть мать, и что я должен привыкнуть, а Габи отвечала, что к таким вещам привыкнуть невозможно. Отец твердил, что для меня это естественное состояние — расти без матери, что я практически родился без нее и что если я буду чересчур много о ней думать, начну жалеть себя, а такой человек ничего, кроме презрения, не заслуживает; что многие его друзья погибли на войне, и он старается о них не вспоминать, потому что жизнь — это не страховая компания и не всем удается дожить до естественного конца, некоторые падают по пути, но остальные должны идти вперед и не оглядываться.
Отец не знал, что я их слышу. Но я подчинился его приказу. Я ни разу не разочаровал его: я почти не думал о ней. А если она пыталась пробраться в мои мысли, я зажмуривал глаза и вытеснял ее оттуда — мягко, но решительно, у меня был даже специальный звук, такое шипение сквозь зубы, чтобы заглушать мысли о ней, я очень хорошо натренировался, и только в море, среди волн — про это я уже рассказывал, — я иногда ощущал ее, чувствовал, как что-то приникает ко мне, но потом я выходил на сушу, и вытирался как следует, и обо всем забывал. Но вот сейчас я впервые подумал, что, может, отец до сих пор любит ее? И иногда сам останавливается и оглядывается?
— Я знаю, что она умерла молодой. Ей было двадцать шесть лет.
Двадцать шесть лет. В два раза больше, чем мне, подумал я потрясенно. Двадцать шесть — это всего два раза по тринадцать. Не намного старше, чем я сейчас.
Я изо всех сил прижал колени к животу, закусил щеки и вонзил ногти в ладони и сидел так несколько секунд, пока не успокоился. Я не вымолвил ни слова и даже не стер пот со лба. Спина и плечи мои одеревенели. Открой я сейчас рот и попытайся произнести ее имя — что-то сломается у меня в горле. Феликс смотрел на садящееся в море солнце. Черный пес на холме не умолкал. Голову он закинул к небу, хвост свесил. Я начал разгребать пальцем песчинки, чтобы докопаться до мокрого, пропитанного морской влагой песка. Подул легкий ветерок, сдул с одинокого одуванчика летучие семена.
— Жаль, что я… — начал я и осекся. Жаль, что я ее совсем не знаю. Вот что я хотел сказать.
И вдруг понял, что больше всего на свете мне хочется узнать о ней, и чем быстрее, тем лучше, а все остальное по сравнению с этим — просто ерунда. Я никак не мог взять в толк, почему раньше я будто жил во сне и ни о чем подобном не думал, а сейчас задумался именно рядом с этим Феликсом, которого почти не знаю.
— Да, о чем это мы? — спросил я рассеянно и не смог продолжить.
Феликс тяжело молчал. Даже не глядя на него, я чувствовал, что тишина сделалась глубокой и плотной. Я слышал его дыхание: быстрое, трудное, напряженное. Что-то произошло сейчас. Что-то важное. Я повернулся к нему. Мускул подергивался у него на щеке, как сумасшедший.
В животе стало пусто, бело и страшно.
— Ты что, — спросил я, стремительно слабея, — был знаком с ней?
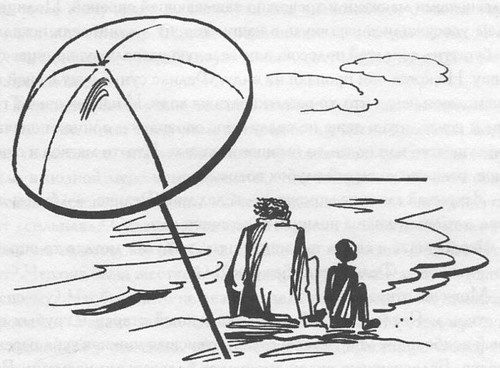
ГЛАВА 11
СТОЯТЬ! ИМЕНЕМ ЗАКОНА!

Спустя несколько минут после того, как мы свернули с берега на проселочную дорогу, мимо пронеслась еще одна полицейская машина с горящими проблесковыми маяками и тревожно завывающей сиреной. Полицейские даже не удосужились взглянуть в нашу сторону — они ведь искали черный «бугатти» с желтой полосой, а не зеленую развалюху, принцессу, а не лягушку. Но когда они пропали из виду, Феликс сунул руку в свой кожаный чемодан и начал что-то разыскивать на ходу. И извлек очки в грубой оправе и нечто, что я даже не сразу смог опознать и принял поначалу за живое существо или когда-то бывшее в живых. Что-то мягкое и отвратительное, похожее на серый клубок волос.
— Закрывай глаза на момент, — велел мне Феликс, — будем делать Пурим
[13]
, а то что-то наша полиция занервничалась.