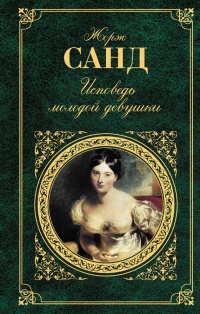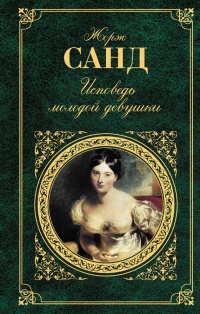
Господину М.-А.
Мой друг, перед тем как принять серьезное решение, к которому вы меня побуждаете, я хочу самым искренним образом поведать вам о себе и о своей жизни. Мой рассказ будет долгим, точным, подробным, иногда несколько наивным. Я просила вас дать мне возможность в течение трех месяцев побыть в одиночестве, чтобы собраться с мыслями, привести в порядок свои воспоминания и спросить свою совесть, нет ли у нее ко мне упреков. Позвольте мне не принимать никакого решения, не высказывать даже никакого мнения о предложении, которое вы мне делаете, прежде чем этот рассказ не будет представлен вашему вниманию.
Люсьена
I
30 июня 1805 года госпожа де Валанжи ехала в своей старой карете, представлявшей собою весьма странное и сложное сооружение, в котором было что-то от коляски, что-то от таратайки и что-то от ландо, но которое, в сущности, не было ни тем, ни другим, ни третьим. Это был один из тех причудливых экипажей, которые провинциальные фабриканты изобрели для удобства путешественников во времена Директории,
[1]
в эту эпоху перемен, поисков вслепую и всяческих прихотей во всех областях жизни. Тяжелая и прочная карета была еще вполне пригодна, а госпожа де Валанжи отнюдь не стремилась изменить свои привычки. Она избежала революционных гроз, укрывшись в своем замке Бельомбр, где-то в глубине горного ущелья Прованса, сохранив в неприкосновенности свое скромное состояние и свои умеренные взгляды. Это была превосходная женщина, малообразованная, выражаясь литературным языком, но зато кроткая, любящая и преданная, обладавшая безошибочной чуткостью сердца. Не она сдала Тулон англичанам и желала побед чужеземцам. И не она взяла Тулон обратно
[2]
и желала побед Республике или Империи.
[3]
— Я уже старуха, — говорила она, — и прошу только, чтобы меня оставили в покое. Кроме того, я женщина, а потому не могу желать никому зла.
Эта прекрасная женщина спокойно ехала сейчас в своей карете. Рядом с нею сидела крепкая провансальская крестьянка, держа на руках здоровенького грудного младенца, родную внучку госпожи де Валанжи, мадемуазель Люсьену, которой было десять месяцев. Этот ребенок, привезенный в Прованс, родился в Англии, где его отец, маркиз де Валанжи, женился во время пребывания за границей на ирландке из хорошей семьи. Английский климат не был благоприятен для двух первых детей, рожденных от этого брака, и они умерли во младенчестве. Почти с самого рождения Люсьену доверили французской кормилице и поручили заботам ее бабушки, которая приехала за ней в Дувр и затем в течение трех месяцев благополучно воспитывала ее под южным солнцем. Этот ребенок, которого в силу обстоятельств его рождения и положения его отца увезли за границу, отнюдь не нарушил своим возвращением покоя Франции, но ему суждено было самым странным образом нарушить покой своей собственной семьи.
Дорога поднималась в гору все выше. Жара стояла невыносимая. Открытая и низкая карета двигалась так медленно, как только могут плестись две старые клячи, если кучер крепко уснул на козлах. Видя, что госпожа де Валанжи тоже заснула, кормилица хорошенько закутала в белое муслиновое покрывало затихшую Люсьену, которая задремала раньше всех, и решила, конечно, зорко следить за своим сокровищем. Но было так жарко и они ехали так медленно, что, когда они достигли перевала и лошади, почуяв запах конюшни, сами прибавили рыси, все вдруг проснулись. Кучер, чтобы показать, что он не спит, начал нахлестывать лошадей, а госпожа де Валанжи бросила спокойный и нежный взгляд на покрывало, под которым спала ее внучка… Но вдруг кормилица, почувствовав, что под покрывалом никого нет, что нет никого и у нее на руках, что нет никого у нее на коленях, вскочила с помутившимся от ужаса взором. Она лишилась дара речи, ее глаза блуждали, она казалась полумертвой, полусумасшедшей: ребенок исчез.
Она не издала ни звука, она не могла вымолвить ни слова, она выскочила на дорогу, она упала, она лишилась чувств. Кучер остановил лошадей и, смутно соображая, что ребенок, вероятно, выпал из рук кормилицы на дорогу, не стал ожидать приказания своей оцепеневшей от ужаса хозяйки, а постарался как можно скорее повернуть карету назад. Разочарованные лошади не выказывали особого усердия. Бедняга кучер сломал даже свой кнут, но дело от этого вперед не продвинулось. Старуха, полагая, что может бежать, вышла из кареты. Тем временем кучер, хлеща что есть сил лошадей кнутовищем, опередил ее. Кормилица, как только пришла в себя, изнемогая, потащилась за старухой. На пыльной дороге не видно было ни одного прохожего, все следы уже были сметены свежим бризом, всегда дующим в этих местах. Несколько крестьян, работавших в отдалении, примчались на крики женщин и тоже с воплями и причитаниями пустились на поиски. Наиболее усердным все-таки был кучер, который с ужасом ожидал, что вот-вот они найдут в колее раздавленного колесами ребенка. Он всхлипывал, как человек добросердечный, извергая в то же время кощунственные ругательства, как настоящий язычник.
Но куда там! Ничего не нашли — ни раздавленного ребенка, ни обломка кареты, ни клочка ткани, ни капли крови, никакого следа, никакого знака на этой пустынной и немой дороге! Огромные мельницы, старинные владения монашеских орденов, расположены здесь в двух-трех лье друг от друга, вдоль бурного течения Дарденны. Кучер взывал о помощи, расспрашивал всех, стараясь выяснить, бия себя в грудь, когда же он уснул. Никто не мог ему этого сказать, настолько все привыкли видеть его спящим на козлах! Никто не обратил внимания, когда ребенок исчез из кареты. Никаких следов! Через несколько часов вся округа была на ногах, от замка Бельомбр до деревушки Реве, где карета делала остановку и где ребенка еще видели прильнувшим к груди кормилицы. Полиция не так уж скоро прибыла на место происшествия, но зато она сделала все, что было возможно. Обыскали все столь редкие жилища этой долины, обследовали все овраги и ямы, арестовали несколько бродяг, подвергли допросу всех, кого было можно… Но минул день, неделя, месяц, год, и никто даже представить себе не мог, что, собственно, произошло с малюткой Люсьеной.
II
Кормилица впала в состояние буйного помешательства, пришлось держать ее взаперти. Старик кучер, которого снедало горе и терзало уязвленное самолюбие, стал искать утешения — или, скорее, забвения — в вине. И однажды вечером он утонул вместе с одной из своих лошадей в Дарденне, которая выступила из берегов. Говорят, что маркиз де Валанжи скрывал как можно дольше от своей жены эту зловещую и таинственную историю. Когда она узнала правду, она умерла. Маркиз сделался сумрачен, раздражителен, несправедлив и поклялся, что его останки не будут преданы земле на его неблагодарной и столь роковой для его судьбы родине. Он отверг предложения госпожи де Валанжи, которая умоляла его принять все меры для возвращения во Францию. Он объявил, что никого и ничего больше не любит. Он не мог простить своей матери, что она не уберегла его единственного ребенка. Только старая госпожа де Валанжи устояла под градом ужасных ударов, которые обрушились на ее семью. Она преисполнилась набожности и благочестия, давала обеты и делала вклады во все церкви округи, не теряя надежды на то, что какое-то нежданное чудо вернет ей бедняжку внучку.