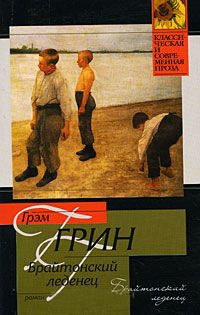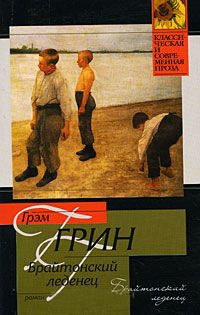
Глава первая
1
Хейл знал, что они собираются убить его в течение тех трех часов, которые ему придется провести в Брайтоне. По его измазанным чернилами пальцам и обкусанным ногтям, по его развязной и нервной манере держаться сразу было видно, что все здесь для него чужое — и утреннее летнее солнце, и свежий ветер, всегда дующий с моря, и Троицын день, и праздничная толпа. Каждые пять минут люди прибывали на поезде с вокзала Виктория,
[1]
ехали по Куинз-роуд, стоя качались на верхней площадке местного трамвая, оглушенные, толпами выходили на свежий, сверкающий воздух; вновь выкрашенные молы блестели серебристой краской, кремовые дома тянулись к западу, словно на поблекшей акварели викторианской эпохи; гонки миниатюрных автомобилей, звуки джаза, цветущие клумбы, спускающиеся от набережной к морю, самолет, выписывающий в небе бледными, тающими облачками рекламу чего-то полезного для здоровья.
Хейлу казалось, что ему легко будет затеряться в Брайтоне. Кроме него в тот день сюда приехало пятьдесят тысяч человек, так что на время он забыл обо всем и наслаждался прекрасной погодой, попивая джин и фруктовые соки во всех барах, куда мог заходить, не отклоняясь от своей программы. А следовать программе он должен был точно: от десяти до одиннадцати — Куинз-роуд и Касл-сквер, от одиннадцати до двенадцати — Аквариум и Дворцовый мол, от двенадцати до часу — набережная между «Старым кораблем» и Западным молом, затем — завтрак от часу до двух в любом ресторане близ Касл-сквер. После завтрака он должен был еще пройти по всей набережной до самого Западного мола и оттуда на вокзал по улицам Хоува. Таковы границы его нелепого и широко разрекламированного маршрута.
Повсюду расклеены объявления газеты «Мессенджер»: «Колли Киббер сегодня в Брайтоне». В кармане у него была пачка карточек, которые он должен был разложить по укромным местам на своем пути: каждому, кто найдет такую карточку, газета выплачивала десять шиллингов, но главный приз предназначался тому, кто окликнет Хейла и, держа номер «Мессенджера» в руке, обратится к нему с такими словами: «Вы — мистер Колли Киббер. Мне причитается приз „Дейли Мессенджер“».
В этом и состояла работа Хейла: он должен был двигаться по определенному маршруту до тех пор, пока какой-нибудь претендент на приз его не узнает; он приезжал по очереди во все приморские города: вчера Саутенд, сегодня Брайтон, завтра…
Когда часы пробили одиннадцать, он торопливо проглотил свой джин с тоником и ушел с Касл-сквер. Колли Киббер всегда работал честно, всегда носил шляпу такого фасона, как на фотографии, напечатанной в «Мессенджере», всегда вовремя оказывался на месте. Вчера в Саутенде его никто не окликнул; газета ничего не имела против того, чтобы иногда сэкономить свои гинеи, но не следовало допускать это слишком часто. Сегодня его должны были узнать — он и сам хотел этого. По некоторым причинам он не чувствовал себя в безопасности в Брайтоне, даже среди праздничной толпы в Духов день.
[2]
Он прислонился к перилам у Дворцового мола и повернулся лицом к толпе, которая беспрерывно раскручивалась перед ним, словно моток двухцветного провода, — люди шли парами; по лицу каждого было видно, что он твердо решил сегодня как следует повеселиться. Всю дорогу от вокзала Виктория они простояли в переполненных вагонах; чтобы позавтракать, им придется долго ждать своей очереди; в полночь, полусонные, они будут трястись в набитом поезде, опаздывающем на целый час, и по узким улицам, мимо закрытых баров, устало побредут домой. С огромным трудом и огромным терпением они выискивали зерна удовольствия, рассеянные на протяжении этого длинного дня: солнце, музыку, шум миниатюрных автомобилей, поезд ужасов, проносящийся между рядами скалящих зубы скелетов под набережной у Аквариума, палочки Брайтонского леденца, бумажные матросские шапочки.
Никто не обращал внимания на Хейла, ни у кого в руках не видно было «Мессенджера». Он аккуратно положил одну из своих карточек на крышку корзины для мусора и пошел дальше, одинокий, с обкусанными ногтями и пальцами в чернильных пятнах. Он ощутил одиночество только после того, как выпил третью рюмку джина: до этого он презирал толпу, а теперь почувствовал в ней что-то родное. Он происходил из тех же кварталов, что и все эти люди, его всегда тянуло к аттракционам, к дешевым увеселительным заведениям на молу, хотя более высокий заработок обязывал его делать вид, что он стремится к чему-то другому. Он хотел бы вернуться к этим людям… но теперь ему оставалось только прогуливаться по набережной, и на губах его застыла насмешливая улыбка — знак одиночества. Где-то, невидимая ему, пела женщина: «Когда я в поезде из Брайтона неслась…» Звучный, бархатистый, как пиво, голос доносился из общего зала бара. Хейл завернул в малый зал и оттуда через два других зала, сквозь стеклянную перегородку стал смотреть на ее пышные прелести.
Женщина была еще не старая, хотя ей было далеко за тридцать, а может быть, лет сорок с небольшим, и лишь слегка под хмельком, в добродушном, общительном настроении. Ее вид наводил на мысль о матери, кормящей грудью младенца, но если эта женщина и рожала детей, то она все же не давала себе опускаться и продолжала следить за собой. Об этом свидетельствовали ее накрашенные губы, а также уверенность, исходившая от всего ее крупного тела. Она была полная, но не расплылась и сохранила фигуру — это было очевидно любому знатоку.
Хейл принадлежал к таким знатокам. Он был мужчина небольшого роста и взирал на нее с завистливым вожделением поверх движущегося желоба с опрокинутыми в нем пустыми стаканами, поверх пивных кранов, между плечами двух официантов в общем зале бара.
— Спойте мне еще. Лили, — сказал один из тех, кто был с ней, и она начала:
Той ночью, в аллее,
Лорд Ротшильд мне сказал…
Она никак не могла пропеть больше нескольких строк. Ей было смешно, это мешало ей петь в полный голос, но она помнила множество разных баллад. Ни одной из них Хейл никогда раньше не слышал; поднеся рюмку к губам, он с тоской смотрел на нее, а она запела новую песню.
— Фред, — произнес чей-то голос позади, — Фред.
Джин выплеснулся из бокала Хейла на стойку бара. Из дверей на него пристально смотрел юноша лет семнадцати. Потертый щегольской костюм, служивший так долго, что материал его совсем износился, лицо, исполненное жадного напряжения и какой-то отталкивающей и противоестественной гордыни.
— Какого тебе Фреда? — спросил Хейл. — Я не Фред.
— Это неважно, — ответил юноша. Он повернулся к двери, оглядываясь на Хейла через узкое плечо.