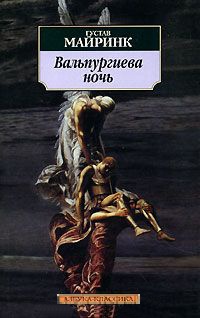
ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ ГУСТАВА МАЙРИНКА
Ступени уходят в головокружительную глубину, липкая тьма заклеивает тело и втискивает мускульную дрожь в кости скелета, и вытянутые пальцы нащупывают что-то мягкое, скользкое, пульсирующее, ледяное… гибельную тишину разрывает тяжелый хриплый вздох, и наше сердце, вырванное искусной рукой невидимого хирурга, где-то далеко-далеко неторопливо и монотонно отстукивает: раз… два… три… четыре…
Время еще есть. Надо повернуться и найти дверь. Но увы: «Вместо ручки в дверь была вделана человеческая кисть; белые пальцы трупа – на безымянном тускло блеснуло знакомое кольцо, – вцепившись в пустоту, окоченели в последней судороге». Нонсенс? Недоразумение? Рукопожатие?
Наше знакомство с Густавом Майринком состоялось. Мы вышли из своего пространства, мы вошли в его психологический климат. Но так ли это? На мгновенье взметнулись кровавые искры понимания, и мы различили зловещий ландшафт окружающего. Мы окружены. Лучше отбросить книгу, вернуться на свое место в жизни и накрыться с головой лоскутным одеялом взаимоотношений, дней, телевизионных программ. «Только не думай ни о чем необычном, оставайся при старом повседневном, – предостерегал внутренний голос. – Как молнии, опасны мысли». Но не так-то просто вырвать с мясом отравленную стрелу рассуждения Майринка. У нас нет своего места в жизни, так как все мы больны, живем в госпитале и врачи дирижируют каждым экзистенциальным мотивом. В самом деле: нам постоянно дают советы, консультируют меню, регулируют передвижение, выписывают бесконечные рецепты поведения. Мы живем в эпоху универсальной пародии: красный крест великого рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров стал эмблемой весьма сомнительной медицинской помощи – кто-то копается в наших телах, свинчивает и вывинчивает детали машины, именуемой странным словом «фактор». Мы живем в санатории, короче говоря.
В сборнике «Волшебный рог немецкого филистера» есть небольшой этюд под названием «Больно». В комнате, предназначенной для приема посетителей, сидят обитатели и гости психиатрической клиники. «Не разговаривают – боятся, что сосед либо начнет рассказывать свою историю болезни, либо усомнится в методах лечения… Несказанно пусто и одиноко. Вялые немецкие сентенции, наклеенные на белом картоне черными блестящими буквами, действуют как рвотный камень». Наблюдатель спокоен и вполне предполагает возможность «революции»: «Я не удивлюсь, если все эти люди, без всякого призыва, сожмутся в единого человека и начнут крушить все подряд – окна, лампы, столы». Но ничего не происходит, потому что «…всем нам довлеет время и высасывает нас как полип».
Майринк пытается нащупать гордиев узел проблемы: спровоцированная кем-то или чем-то жизнь зажигает наши зрачки, заставляет нас работать, суетиться, кричать, любить, ненавидеть. И когда действие провокации кончается, глаза потухают, голова опускается, пальцы сцепляются, и мы сидим в тягостном, напряженном ожидании… новой провокации. В Африке это называют позой «таири», на Гаити отдыхом «зомби» – так сидят оживленные колдунами трупы после монотонной и элементарной работы. Наблюдатель чувствует, что и сам он медленно и верно втягивается в это роковое оцепенение: «Я вспоминаю все мрачные переживания своей жизни, они поочередно возникают в памяти и взирают на меня черными глазницами домино. У меня такое ощущение, словно полость рта забита большой серой каучуковой массой, которая разрастается, заполняет гортань, заполняет мозги». С белых костяных пластинок домино глядят черные глаза. Юноша, сидящий рядом, пытается уложить эти костяшки в коробку… и симметрии никак не получается. И наблюдатель аналогичным способом силится навести порядок в своей бедной голове: «Я вспоминаю все мрачные переживания своей жизни, они поочередно возникают в памяти и взирают на меня черными глазницами домино, словно ищут неопределенный ответ: я стараюсь расположить их в какой-то призрачной коробке, в каком-то зеленом гробу – но каждый раз выходит то больше, то меньше».
Таков один из многочисленных вариантов онтологической схемы Густава Майринка: жизненное время – мучительное ожидание, заполненное постоянным пересчетом костяшек – переживаний, секунд; жизненное пространство – комната, оклеенная медицинскими советами, коробка, гроб… В этом континууме сидят или стоят марионетки, манекены, восковые фигуры, пытаясь вычислить, что же именно довело их до жизни такой, где находится недостающее звено, какое фатальное событие или переживание определило их так называемую жизнь и замазало известкой их колоритную надежду. Они берут костяшки домино и рассматривают их до боли в глазах: вот жизнь, вот моя позиция в жизни. Плохо я живу, надо менять позитуру, надо впредь относиться к жизни серьезно, равнодушно или с наплевательским юмором. С такого размышления начинается рациональная увертюра экзистенциальной катастрофы. Потому что «быть в мире» отнюдь не означает поиска схематических и химерических ориентации или специфического отношения к миру. Между «тик» и «так», в неясной протяженности между страницами, может случиться все что угодно – удар птицы в оконное стекло, кораблекрушение, двадцать лет тюрьмы, обжигающая боль откровения. «Между секундой и секундой пролегает граница, которая не во времени – она лишь подразумевается. Это такие ячейки, как на сетях… – читаем мы в рассказе «Bal macabre». – Но сосчитать все ячейки – это еще не время, и все же мы отсчитываем их – одна, другая, третья, четвертая…» Мы опутаны сетью времени, мы барахтаемся в ней и принимаем наши судороги за действительные переживания, а беспорядочную возню и катанье по земле – за пройденный путь. Нервное «тик» и задумчивое «так», будильник и секундомер, паническая дрожь спровоцированного желания и глупого раскаяния, рождающие одно и то же: надо было поступить не так, а так… Характерный для начала нашего века вопрос: «я иду» или «меня ведут»? Если я, то кто такой этот «я», если они, то кто «они»? Аффектация, аффектированное пожимание плечами, убийство в состоянии аффекта – гальванические судороги разлагающейся плоти, кривляние марионеток, отчаянная жестикуляция палача, который искренне верит в свою спасительную миссию. Это просто времяпровождение, прозябание, но где же истинное время и настоящая жизнь? Раскроем книгу одного из примечательных людей нашего столетия и прочтем: «Аффект: слепо возбуждающий импульс. Страсть: светлый и концентрированный взрыв в экзистенциальной конкретности. Очень поверхностны высказывания следующего типа: гнев вспыхивает и улетучивается, то есть недолго продолжается, ненависть живет долго. Нет. Любовь или ненависть не только живут дольше, но впервые дают истинное время и устойчивость нашему бытию» (М. Хайдеггер, «Ницше»). Философ рождает аффект беспокойного размышления, но где мы найдем реальность любви или ненависти? Ведь сейчас яснее, чем когда бы то ни было, становится понятно, что книги – сеть времени, что они высасывают нас как полипы, отнимают у нашей любви или ненависти всякую энергию и склонны убивать любой росток самостоятельной мысли. Мы живем в исторический момент провала авантюры Гутенберга. Вспомним пророческие слова Клода Фролло – героя «Собора Парижской богоматери» Гюго: «Это убьет то». «Это» – одна из первых печатных книг, «то» – собор, архитектурная мистерия, вечный символ, побуждающий к свободному труду. Но свобода для нас – только развлечение в ресторациях типа «Зеленой лягушки», отвлечение от монотонной работы зомби. В клейкой сети времени барахтаются «двуногие птицы без перьев». Почему Паскаль так определил человека? Почему Густав Майринк назвал «пингвином» Тадеуша Флугбайля – удивительного героя своего романа? Да и кто, собственно говоря, он сам – Густав Майринк?

