Одна из причин того, что «Человек, который любил детей» остается вне канона, состоит, подозреваю, в том, что Кристина Стед стремилась писать не «как женщина», а «как мужчина»: феминисткам не вполне ясно, какую веру она исповедует, а всем остальным характер ее письма кажется недостаточно мужским. Предыдущий ее роман — «Дом всех наций» — скорее напоминает роман Гэддиса или даже Пинчона, чем какой бы то ни было из романов xx века, написанных женщинами. Стед не устраивал сепаратный мир для нее одной, в ее комнате. Она была настроена на соперничество, как сын, а не как дочь, и в ее лучшем романе ей нужно было вернуться к первоначальным событиям своей жизни и победить своего красноречивого отца на его поле. И это в свою очередь многих смущает, ибо, какую бы важную роль ни играл в нашем обществе, основанном на свободном предпринимательстве, дух соперничества, открыто продемонстрировать этот дух, присущий тебе лично, значит выставить себя в очень невыгодном свете (спортивное соперничество — исключение, подтверждающее правило).
В интервью, которые давала Стед, она порой откровенно говорила о прямой и полной автобиографичности романа. По существу, Сэм Поллит — это ее отец Дэвид Стед. Идеи, голос, домашние затеи Сэма — все это взято от Дэвида и перенесено из Австралии в Америку. Если Сэм влюбляется в Джиллиан, дочь сослуживца, наивную женщину-девочку, то реальный Дэвид не устоял перед Тисл Харрис, хорошенькой девушкой Кристининого возраста, — у них был короткий роман, потом они жили вместе и, наконец, много лет спустя поженились. Тисл была для Дэвида юной, красивой, восприимчивой к его идеям ученицей и льстивым зеркалом — тем, чем никак не могла для него быть Кристина, потому хотя бы, что, пусть и не толстушка, как Луи, она отнюдь не блистала красотой (об этом можно судить по фотоснимкам в биографии Роули).
В романе некрасивая внешность — удар по нарциссизму, свойственному и самой Луи. Есть основания думать, что именно лишний вес и невзрачное лицо избавляют ее от отцовских иллюзий, толкают ее к честности, спасают ее. При этом боль, которую испытывает Луи, сознавая, что ее вид мало кого радует (и меньше всех он радует отца), несомненно, проистекает из боли самой Кристины Стед. Ее лучший роман в итоге воспринимается как дочернее приношение отцу, как дар любви и солидарности: видишь, я такая же, как ты, я выработала язык, равный твоему, превосходящий твой, — но это, конечно, еще и дар ненависти, дар соперничества, доходящего до белого каления. Когда Луи сообщает отцу, что никому не говорила, какая жизнь у них дома, объясняет она это так: «Никто бы мне не поверил!» Взрослая Кристина Стед, однако, смогла заставить читателя ей поверить. Зрелая писательница сотворила правдивое зеркало, показывающее то, что ее отец и Сэм Поллит меньше всего хотят видеть; когда роман опубликовали, она послала экземпляр в Австралию, правда, адресовала его не Дэвиду Стеду, а Тисл Харрис. Надпись гласила: «Милой Тисл. Семейная робинзонада в духе Стриндберга. В некоторых отношениях может рассматриваться как личное послание к Тисл от Кристины Стед». Читал ли книгу Дэвид, остается неизвестным.
Шершни
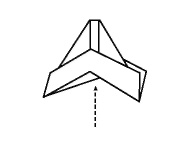
В начале девяностых, дойдя до абсолютного безденежья, я начал принимать приглашения знакомых пожить у них летом и последить за домом. Первый дом, куда я таким образом вселился, принадлежал профессору моей альма-матер. Они с женой боялись, что их сын, студент колледжа, будет в их отсутствие устраивать там вечеринки, и поэтому убеждали меня рассматривать дом как свое частное, недоступное для прочих жилище. Но даже одному мне было там нелегко: чужой дом — это чьи-то купальные халаты в шкафу, запас чьих-то приправ в холодильнике, чьи-то волосы в сливе душа. А когда в доме, что было неизбежно, появился их сын и принялся бегать туда-сюда босиком, потом стал звать друзей и закатывать вечеринки до поздней ночи, я почувствовал себя больным от бессилия и зависти. Должно быть, выглядел я отталкивающе, настоящий дух тоскливого безмолвия, потому что однажды утром на кухне сын хозяев, хоть я не сказал ему ни слова, поднял голову от своей холодной тарелки с хлопьями и грубо привел меня в чувство: «Это мой дом, Джонатан».
Несколько лет спустя, дойдя до сверхабсолютного безденежья, я сделался летним хранителем величественного дома с украшениями из искусственного мрамора в Мидии, штат Пенсильвания, принадлежавшего моим старшим друзьям Кену и Джоан. Мое прозрение совершилось однажды вечером за мартини, который Джоан зря встряхивала с кубиками льда, о чем ей с нежным упреком заметил Кен. Я сидел с ними на мшистой задней террасе, а они с неким размягченным смирением перебирали проблемы, которые ставит перед ними дом. Матрас из пеноматериала в их спальне крошится и испещрен воронками; красивые ковры превращаются в пыль из-за моли, которую не истребить никакими силами. Кен сделал себе еще один мартини, а потом, глядя на ту часть крыши, что протекает в сильный дождь, произнес резюме, которое неожиданно подсказало мне, как я мог бы жить счастливее, как мне освободиться от гнетущего чувства финансовой ответственности, завещанного родителями. Небрежно держа бокал под углом, Кен задумчиво, не обращаясь ни к кому в особенности, сказал: «Да ведь мы… всегда жили и живем не по средствам».
Единственное, что я должен был делать в Мидии в обмен на проживание, это косить обширную лужайку Кена и Джоан. Косьба газонов неизменно была одним из тех занятий, что приводили меня в наибольшее отчаяние, и, следуя примеру Кенни, я зажил «не по средствам»: откладывал первую косьбу до тех пор, пока трава не выросла настолько, что, взявшись за газонокосилку, я должен был каждые пять минут останавливаться и опорожнять мешок. Со второй косьбой я тянул еще дольше. Когда наконец я за нее принялся, оказалось, что лужайка заселена множеством земляных шершней. Размером они были с пальчиковую батарейку, а по собственнической агрессивности превосходили даже сына владельцев моего первого летнего приюта. Я позвонил Кену и Джоан в их вермонтское летнее прибежище, и Кен сказал мне, что надо, когда стемнеет и шершни уснут в своих норках, обходить их все одну за другой, наливать в каждую бензин и поджигать.
Я знал, что бензин требует осторожности. Когда я вечером вышел с фонариком и канистрой на лужайку, я, налив бензин в очередную норку, закрывал канистру колпачком, отставлял ее на безопасное расстояние и только потом бросал в норку зажженную спичку. Из некоторых норок, перед тем как я устраивал там ад, слышно было тихое жалобное жужжание, но мое сочувствие шершням перевешивалось восторгом пиромана от вспышек и удовлетворением оттого, что я избавляю свое жилище от захватчиков. В какой-то момент я ослабил бдительность, перестал закрывать канистру между убийствами, и, разумеется, попалась спичка, не желавшая загораться. Пока я раз за разом чиркал ею о коробок, а потом вытаскивал другую спичку, бензиновые пары незримо плыли вниз по склону пригорка к тому месту, где я оставил канистру. Когда я наконец поджег норку и побежал вниз по склону, за мной устремилась огненная река. Обогнав меня, она выдохлась и погасла немного не доходя до канистры, и прошел час, прежде чем я перестал дрожать. Я едва не спалил дом, где живу, — дом, помимо прочего, не мой. Как ни скромны мои средства, лучше все же, подумалось мне, существовать в их границах. С тех пор я никогда не поселялся у знакомых.

