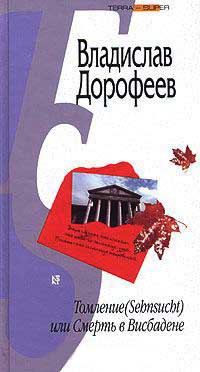
«Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих, соответственно потребности питаться устроены были бы части лица, и оно было бы продолговато, утончалось бы к ноздрям, у рта выдавались бы вперед губы мозолистые, твердые и толстые, способные щипать траву. Между зубами вложен был бы язык, отличный от теперешнего, мясистый, упругий и жесткий, помогающий зубам, или влажный и по краям мягкий, как у собак и прочих сыроядных животных, вращающийся в промежутках острого ряда зубов, посему, если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять или ржать, или реветь подобно волам и ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову. Следовательно, руки оказываются принадлежностью словесного естества: Творец и их примыслил для удобства слову».
Святитель Григорий Нисский, «Человек есть образ Божий», гл.8
Часть I. Кто ты
«Кто ты?» – Спросила она меня. Или промолчала она обо мне. Неважно. Она сидела напротив меня. И это одно составляло наибольшую радость в этот немыслимый и пряный пятничный московский вечер, на Тверской улице, в самом центре, в утробе этой великой улицы, пропитанной красотой и соблазном искренней и чистой любви, – улице, к фонарям которой я возвращаюсь вновь и вновь, несмотря на войну и мракобесие, никогда не покидающие город и его окрестности.
Мне так дороги эти встречи. И эта небольшая круглая, аккуратно причесанная, рыжая головка ее, с лукавой усмешкой на внешне ветреном лице, за центральным столиком напротив входа/выхода в тот мир (так и ждет, как бы ускользнуть), с ожидаемой и лукавой усмешкой.
Я совершенно влюблен в нее, во все, что с ней связано. Конечно, влюблен. А в противном случае, как я могу прописать ей роман, который вылечит ей душу и укажет на причины ее тоски и страхов.
Вот самое мерзкое, что есть в литературной работе, вот грань, по которой можно соскользнуть в бездну, забыв о страхе, обманувшись. А ведь авторский замысел – будто мерзкий червь вползает в душу, там устраивает гнездо и понемногу, обгладывая душу, расширяет гнездо, понемногу замещая жизнь выдумками, веру – удовольствием, ум – страстью. Ненавижу. Я порой ненавижу свой дар. Но эта ненависть секундна, на смену приходит жалость к себе; но и жалость не менее глупа и абсурдна, ибо дар мой – не мой, а на службе Богу, в противном случае, не дар это, а погибель души моей и душ многих. Вот где источник опасности в литературной работе.
Я начинаю плести кружева нашего романа. Это будут великолепные, невероятной красоты и изысканности кружева.
Я молчал. Я не знал. Я не знал, что ей ответить. Точнее, я знал, что этот ее вопрос справедливее было бы обратить к ней самой.
Она смотрела на меня, изогнувшись в форме раненой птицы, и голова ее, похожая на яблоко, висящее на осенней ветке, качалась, будто маятник наоборот, на тонкой и нежной шее, по форме напоминающую горлышко амфоры, не обнаруженной на дне морском, и не затонувшей вместе с кораблем с драгоценным грузом византийской мирры.
Ну что мне оставалось делать? Конечно, я встал, поднял амфору за обе ручки, с трудом оторвал от пола и опрокинул на себя; запах мирры распространился кругом, сначала на залу, – в которой мы встретились, – залитую нежным и ласковым светом русского московского заката, а потому трепетную (ну, нет, это излишество – трепет происходит из ее глаз, окантованных волнующейся весенней травой ресниц), затем сквозь огромные и раскрытые окна (и ее огромные распахнутые в мир глаза) и огромную дверь на Тверскую, затем к Кремлю, и дальше, сквозь Тверскую заставу, и по Садовому кольцу, нарезая круги, по стране, не останавливаясь ни на человеческих, ни на временных границах, мирра нахлынула на мир; а всего лишь распахнулось сердце, а всего лишь растворился страх, и душа вернулась на место и в состояние, привычное человеку, нет-нет, слабо! – приличествующее человеку! – и не мирра то, а бескрайняя и безграничная любовь к миру, Богу, себе, человеку – всякому, нынешнему и будущему. Мирра любви нахлынула на мир, и ничто уже не могло нас остановить, ничто.
Так началась эра экспансии русской любви, сумасшедшей, соизмеримой разве что с божественной вселенной, – русской любви. Невыразимой русской любви, замешанной на еврейских дрожжах немыслимой и безграничной памяти. Любовь, замешанная на памяти, умащает душу, размягчая самую грубую шкуру, готовя самую твердую душу к восприятию завета любви и закона памяти. Такой любви ничто не в состоянии противостоять. Ничто, нигде, никогда. Так.
«Зачем ты меня нашел»?
Я замолчал от неожиданности, или напротив, удовлетворения, уткнувшись в кулак, брошенный небрежным жестом на плоскую грань стола, сквозь которую выпячивал горб времени: когда-то на этом месте стоял другой стол, за которым сидели другой кавалер и с другой барышней, они смотрелись друг в друга, а со стены, позади нее и впереди него, тупое зеркало отражало происходящие события. Отражений было много. В них можно было бы запутаться. А поскольку в них никто не разбирался, некому было и путаться. И я не среди них. И потому я ее не искал. Потому я ее и не находил. Разве можно найти то, что не искал? Нет! Вот я и молчал. А что я мог сказать. Мне оставалось лишь молчать.
«Зачем ты меня нашел? Почему ты решил, что я нуждаюсь в твоей помощи? Ты – добрая фея? Я все равно не хочу жить! Понимаешь, не хочу. Не могу. Я не знаю, как мне жить дальше».
Я знал ответ, но молчал, я ждал.
«Молчишь! Тогда смотри»!
Я смотрел в зеркало перед собой. Передо мной было лишь отражение. И мне было все равно, что происходило с моим или ее отражениями.
«Помоги мне. Слышишь, помоги!»
Изображение уже не просто беззвучно кричало, широко раскрыв рот, изображение билось о поверхность существования, пытаясь выскочить и докричаться до меня.
«Ведь ты же писатель! Помоги. Напиши, как мне быть, объясни мне меня. Чтобы я поняла, что мне делать дальше, как жить!»
От крика уже плавилось зеркало. И пространство между нами дымилось, стремительно сокращаясь до дистанции понимания. Я приблизился к изображению (или оно ко мне), превращаясь в цитату.
Стоп!
Попробуем разобраться. Что такое писатель, точнее, что такое литература? и могу ли я ей помочь, должен ли?
Бог – это стиль – вот основное утверждение двадцатого века. Стиль был феноменом двадцатого столетия.
Литература – это стиль – вот величайшее достижение литературы двадцатого века.
С этим можно согласиться, но при условии, что Стиль – с большой буквы.
И тогда формула литературы двадцать первого века отличается от литературной формулы двадцатого века прежде всего содержательно. Ибо Бог – это Стиль.

