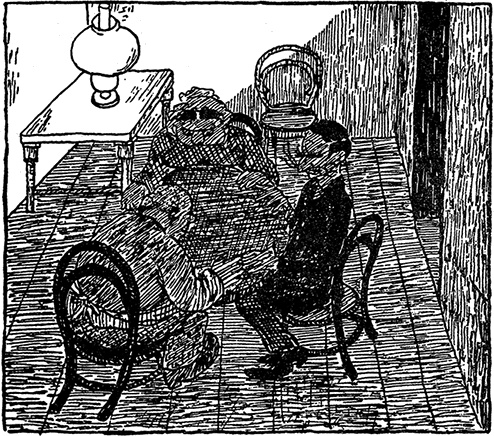Тут Микелоцци, который обычно отличается кротким нравом, но в минуту опасности ведёт себя как герой, перебил его сдавленным от волнения голосом:
– Недостоин? Не верю, что ты считаешь себя недостойным и впредь возглавлять наше общество!
– И мы не верим! – подхватили мы хором.
Но Бароццо покачал головой:
– Я не сделал ничего, чтобы стать недостойным… совесть моя чиста, меня не в чем упрекнуть. Я не нарушил ни устава нашего общества, ни кодекс чести.
Тут Бароццо драматическим жестом приложил руку к сердцу.
– Я больше ничего не могу вам сказать! – продолжал бывший председатель. – Но если в вас осталась хоть капля дружеских чувств ко мне, не спрашивайте меня, что заставляет меня оставить председательство. Знайте только, что отныне я не могу больше участвовать в вашем бунте, я не могу продолжать борьбу и решение моё непоколебимо.
Все опять переглянулись и немного пошушукались. Я понял, что слова Бароццо все восприняли всерьёз и, оправившись от первого потрясения, смирятся с его отставкой.
Бароццо тоже видел это, но стоял неподвижно, как Брагадин в ожидании, когда турки сдерут с него кожу
[25]
.
Тогда я не выдержал и, припомнив всё, что видел и слышал накануне сквозь дыру в основателе пансиона, заорал во весь голос:
– Нет, в отставку тебе не уйти!
– Кто же мне помешает? – ответил Бароццо с достоинством. – Значит, пробил час мне идти своей дорогой, как подсказывает голос совести.
– Какой ещё «голос совести»! – ответил я. – Какое ещё «пробил час»! Голос, который тебя так взбаламутил, принадлежит не совести, а синьору Станислао, а что до часа, так это не он бьёт, а синьора Джелтруде: она так измочалила своего муженька, любо-дорого!
Эти слова окончательно сбили с толку членов общества «Один за всех, и все за одного». Я сжалился и описал им всю сцену в кабинете Пьерпаоло Пьерпаоли от начала до конца.
Словами не передать, дорогой мой дневник, как все обрадовались, что у председателя нашего тайного общества нет серьёзных причин уходить в отставку. То, что его держат в пансионе из жалости, – полная ерунда, на самом деле всем это выгодно, ведь опекун Бароццо нашёл взамен кучу новых воспитанников для пансиона.
Но ещё больше членов общества позабавил рассказ о побоях и парике. Ну кто бы мог подумать, что директор со своей генеральской статью позволит жене так бесцеремонно с собой обращаться; просто не верилось, что шевелюра, как, видимо, и военная выправка, у него фальшивая.
Но Бароццо даже не улыбнулся… Мой рассказ не утешил его: он был подавлен тем, что его держат в пансионе на особых условиях.
Так что, как мы ни настаивали, он не захотел отступить от принятого решения и в заключение сказал:
– Оставьте меня, друзья мои, тогда рано или поздно я совершу что-то такое… что вы сейчас и представить не можете. Совесть не позволяет мне больше состоять в вашем обществе, но я должен показать, на что способен, и не вам, а самому себе.
Он произнёс это так решительно, что никто не осмелился ему перечить. Было решено собраться снова, чтобы выбрать нового председателя: сейчас уже поздно, того и гляди застукают.
– Грядут большие перемены! – сказал мне Маурицио дель Понте, когда мы пожимали друг другу руки и обменивались пророческими словами «Один за всех!» – «Все за одного!».
Посмотрим, прав ли окажется дель Понте, но я тоже предчувствую, что в самом ближайшем будущем нас ждут великие события.
* * *
Ещё одна потрясающая новость!
Вчера я застукал директора, директрису и повара за спиритическим сеансом…
Клянусь! Когда я занял своё место за картиной, они уже сидели вокруг круглого стола и повар говорил:
– Он здесь! Вот он!
А вызывали они дух покойного профессора Пьерпаоло Пьерпаоли, заслуженного основателя нашего пансиона, за благородными чертами которого скрывался я.
Понятно, зачем он им понадобился. Синьора Станислао и синьору Джелтруде до глубины души потрясло моё вчерашнее повизгивание, которое они приняли за голос с того света. Им было стыдно за гнусную сцену, разыгравшуюся на глазах почтенного покойника, и очень страшно, вот они и решили попросить прощения, совета и помощи у духа.
– Он здесь! Вот он! – повторял повар.
Вдруг синьора Джелтруде воскликнула:
– Он правда здесь!
Действительно, столик дрогнул.
– Я говорю с духом профессора Пьерпаоли? – спросил повар, уставившись на стол горящими глазами.
Что-то стукнуло по столу, и повар воскликнул с жаром:
– Точно он.
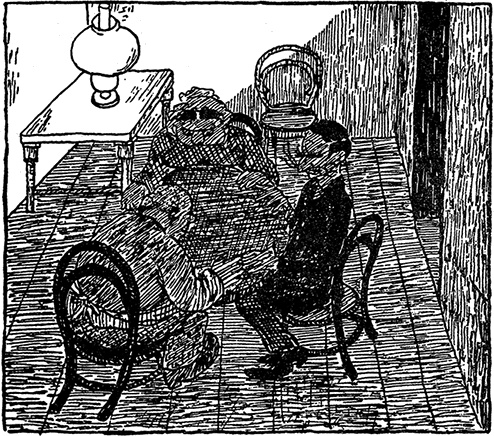
– Спроси его, вчера тоже был он? – шепнула синьора Джелтруде.
– Ты был тут вчера? Отвечай! – приказал повар.
Столик заплясал и застучал, а участники спиритического сеанса вскочили и стали раскачиваться из стороны в сторону, но потом уселись обратно, по-прежнему не спуская глаз со стола.
– Да, – сказал повар, – он был тут вчера.
Синьор Станислао и синьора Джелтруде переглянулись, будто говоря: «Эх, какими же идиотами мы себя выставили!»
Потом синьор Станислао сказал повару:
– Спроси, могу ли я к нему обратиться…
Но синьора Джелтруде резко оборвала его:
– Ещё чего! Если уж кто и будет говорить с духом профессора Пьерпаоло Пьерпаоли, так это я, его племянница, а не вы! Ясно?
И повернулась к повару:
– Спроси его, хочет ли он говорить со мной!
Повар сосредоточился и повторил вопрос.
Столик опять заплясал и заскрипел.
– Он ответил «нет», – сказал повар.
Синьора Станислао, конечно, очень обрадовало фиаско деспотичной супруги, и он злорадно воскликнул:
– Ага, видала?
Зря он так.
Синьора Джелтруде в бешенстве крикнула:
– Вы форменный болван!
– Но Джелтруде! – пролепетал он еле слышно. – Умоляю, успокойся… хотя бы при поваре не начинай… хотя бы при духе покойного профессора Пьерпаоло Пьерпаоли!
Меня так тронул этот бедняга, что захотелось проучить его сварливую жену. Поэтому я прохрипел с укором:
– Ай‑ай‑ай!