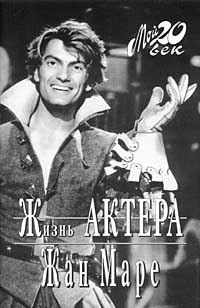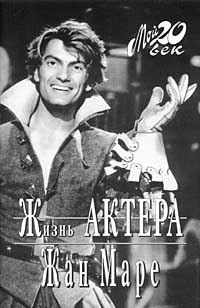
Я ложь, которая всегда говорит правду.
Жан Кокто
1
В Монтаржи Жан Кокто писал «Трудных родителей». Однажды к нам зашел Макс Жакоб. Он составил мой гороскоп: «Вы — Лорензаччо
[1]
, бойтесь совершить убийство», — написал он; и слова «бойтесь совершить убийство» были дважды подчеркнуты синим карандашом.
В то время я думал, что он имел в виду мое амплуа в театре. Позднее я понял его правоту. Я был Лорензаччо, а синий карандаш спас меня от совершения убийства.
Этот поэт открыл мне смысл Лорензаччо в тот момент, когда я лишь недавно стал им. И все же с самого детства я бессознательно стремился к этому. Я следовал по пути, который не был моим. Мной управляла неудержимая сила, которую я считал кокетством. Желая нравиться, я старался скрыть свои недостатки и контролировать реакции. Как мне это удалось? Теперь мне это трудно объяснить. Я так старательно скрыл «чудовище» под множеством достоинств, собранных отовсюду, что оно кажется уснувшим, иногда — умершим. Я могу взглянуть в его глаза — ведь это мои глаза.
Несколько лет назад «Парижское издательство» попросило меня написать воспоминания. Я возразил, что еще слишком молод и к тому же не умею писать. Хотя и вышла моя книга «Мои признания», на четвертой стороне обложки можно было прочитать: «Я помог Жану Маре привести в порядок эти признания, собранные третьим лицом. Моя роль, следовательно, была слишком мала, чтобы я мог поставить свое имя под заглавием рядом с его именем. Но я проникся любовью к Жану Маре и еще больше восхищением: его чистотой, амбициями, желанием делать гораздо больше, чем просто нравиться... Известная газета иронически отозвалась о моей работе. Этим она отвечала на некоторые мои критические замечания, опубликованные в «Комба» и адресованные видному христианскому писателю, возглавляющему эту газету. Не вижу здесь никакой связи. Но поскольку это было сделано, скажите, чье сердце ближе к Богу, этого великого человека или Жана Маре?»
Подписано — Морис Клавель, кого я люблю и кем восхищаюсь.
Ложные положения, обман предшествовали моему рождению: Луиза Шнель, моя бабушка, была родом из Эльзаса. У нее было множество братьев и сестер. Из ее сестер я знал только трех — Евгению, Мадлен и Жозефину.
Луиза вышла замуж за Модеста Вассора, уехала в Париж и родила троих детей: Альбера, Мадлен и Мари-Алину.
Модест был игроком. Деньги улетучивались.
Жозефина вышла замуж за Анри Безона. Это был очаровательный человек, работящий, честный, вскоре он стал директором страховой компании «Ля Провиданс», в которой работал. У супругов не было детей. Жозефина и Анри вырастили Мари-Алину, младшую из детей Луизы. Мари-Алина стала называться Генриеттой, и вскоре мадемуазель Вассор превратилась в мадемуазель Безон: ложные положения начались.
Новоявленная Генриетта Безон вышла замуж за Альфреда Вилен-Маре, называвшего себя просто Альфред Маре. Альфред был студентом, будущим ветеринаром. Генриетта воспитывалась в монастыре, она хотела стать монахиней. Анри Безон уговорил ее выйти замуж. Вскоре он умер от диабета. Альфред увез Генриетту в Шербур, где обосновался. Тетя Жозефина переехала к ним. У Генриетты родились трое детей: Анри в 1909 году, Мадлен в 1911-м и я, Жан, 11 декабря 1913 года.
Ложное положение: моя мать отказалась меня видеть. Ее дочь Мадлен умерла за несколько дней до моего появления на свет; она хотела еще девочку. Я обманул ее надежды; я должен был исчезнуть.
Моя бабушка Луиза оставила мужа, чтобы жить вместе со своими сестрой и дочерью.
У меня сохранилось мало воспоминаний о Шербуре. Помню большой, немного грустный дом, стены, оклеенные обоями под сафьян, кузницу... В самом деле к дому примыкали кузница и двор, в котором мы с братом играли. И сейчас еще я ощущаю запах горелой кожи. В моей памяти сохранились лошадка-качалка, детский автомобиль, подарок крестного Эжена (он не был моим настоящим крестным, настоящим был мой брат). Перед домом площадь д'Иветт, казавшаяся мне, ребенку, огромной (нам запрещалось выходить на нее), гора Руль — небольшой серый холм, который в моем воображении был полон тайн. В памяти встают также осколки бутылок на плохоньком пляже, мой бархатный костюмчик темно-синего цвета с отложным воротником и весь сопутствующий церемониал: завивка волос щипцами, обожженные уши, тросточка, которую я ронял через каждые два метра...
А как забыть внушения мамы по дороге в кинематограф, когда мы отправлялись смотреть Пирл Уайт?
Тогда, конечно, и родилась моя мечта стать актером. Я был влюблен в великолепную блондинку Пирл Уайт. Множество моих кукол, носивших имя Пирл Уайт, служили мне партнершами, так же как и оловянные солдатики, для того чтобы разыгрывать эпизоды из «Тайн Нью-Йорка», которые я перекраивал соответственно размерам моей детской.
В Шербуре моя мать слыла «парижанкой». Ее косметика, даже очень легкая, поражала их. Ее платья, пошитые по последней моде, высокие каблуки, духи, даже то, что она заставляла детей принимать ванну, — все удивляло окружающих. Это, конечно, воспоминания не мои, а матери, которыми она делилась с братом и со мной.
С 1914 по 1918 год я переболел всеми болезнями, которые может подхватить ребенок: коклюш, корь, скарлатина, абсцессы в ушах, бронхит и, ко всему прочему, испанка. Этот грипп называли «испанский», чтобы не произносить слово «чума», которое могло всполошить, людей. Врачи объявили меня безнадежным, к моим губам подносили зеркальце, чтобы узнать, дышу ли я еще. Мать потребовала, чтобы мне сделали какой-то укол.
— Это его убьет, — ответил врач.
— Раз он все равно должен умереть, я сделаю этот укол сама.
Она потребовала рецепт, врач дал ей его, и мать сделала мне укол.
Она взяла на себя всю ответственность. С 41° температура упала до 36°.
— Я убила его, — сказала мать, обливаясь слезами.
— Вы его спасли,— ответил врач.
Я рассказал этот эпизод, чтобы объяснить характер моей матери. Эта женщина страстно любила своих двоих детей.
Еще она рассказывала о чудовищной поездке из Шербура в Гавр, которую мы проделали вместе, чтобы посоветоваться со специалистом: я страдал абсцессами в ушах. Шла война, и достать машину было просто немыслимо,
Моя мать была одновременно строгой и справедливой, нежной и суровой, веселой и серьезной, элегантной и красивой, красивее Пирл Уайт. Что касается моего отца, я почти не знал его, поскольку он ушел на войну в 1914 году. Мне было пять лет, когда он вернулся, В день его приезда я, по словам матери, сидел верхом на сенбернаре. «Отец хотел спустить тебя на землю, а ты сказал: «Кто этот здоровый дуралей, который мне мешает?» Он дал тебе пощечину. Тогда я решила уехать с тобой и твоим братом Анри. Моя тетя и твоя бабушка поехали с нами».