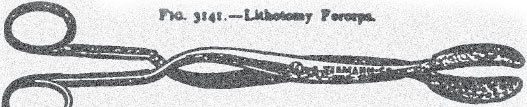– Мать все время за мной шпионит, – пожаловалась она.
– И поэтому ты решила поехать учиться за границу?
– В том числе.
В небольшом камине горел огонь, разгоняя сырость промозглого дня. Потрескивали поленья, пляшущие языки пламени облизывали их. Во рту у меня опять пересохло; надо было взять сюда тот стакан со льдом.
– Итак, там был тощий мальчишка, которого ты едва не застрелил. Ты удержался в последний момент или ты его ранил?
– Ни то, ни другое. Меня удержал Уортроп.
– Вот как? Что ж, значит, он не безнадежен.
Не знаю, может, мне только показалось, но, по-моему, она сделала небольшой акцент на слове «он». Я решил не обращать внимания.
– Я подумал, вдруг тебе захочется знать.
– О чем: о мальчике, о том, что ты убил двоих, или о том, что Уортроп жив?
– Обо всем сразу.
– И о том, что жив ты.
– Само собой. Конечно.
– А та тварь скончалась при попытке ее спасти?
– Нет, позже.
– Но как же так, Уилл? – Она болтала босыми ногами, скрестив их в лодыжках. – Я думала, что Т. Цер-рехоненсис у ирландцев.
– По всей видимости, итальянцы сумели вырвать его у них.
– Тем самым отплатив долг Уортропу. А потом сами же и убили его, когда ты убил тех двоих.
– Да.
– Вряд ли они знали его истинную ценность.
Мое лицо пылало. Наверное, от огня.
– По-моему, жизнь вообще не имеет для них особой ценности, никакая.
– Уортроп, наверное, раздавлен.
– Да, точнее не скажешь.
– И очень зол на тебя.
– А вот это еще мягко сказано.
– Ничего, опомнится. Не в первый раз, верно?
– Он старается.
– Напомни ему о том, что ты спас ему жизнь.
– У него свое мнение на этот счет.
– Ну и глупо. Он вообще осел. Никогда не могла понять, за что дядя так его любит.
Я кашлянул.
– Уортроп был ему вместо сына.
– У дяди никогда не было своих детей. Вот почему он почти ко всем относится, как к своим детям. Для доктора монстрологии у него вообще необычайно мягкое сердце.
– Последнее в своем роде.
– В смысле?
– Да так. Просто… просто меня всегда удивляло, какой он добрый и… даже нежный. То, каким он был, удивительно не совпадало с тем, что он делал.
– Почему ты говоришь «был»?
– Да? Это я так, случайно.
– С дядей Абрамом что-то случилось, Уилл?
Глядя в прозрачную синеву ее глаз, незамутненных до самого донышка, я сказал:
– Понятия не имею, о чем ты.
Она кивнула.
– Так я и думала.
– Что? Что ты думала?
– Что он слишком добр, слишком нежен, и чересчур доверяет людям. – Она наморщила нос. – Из него вышел бы отличный декан какого-нибудь собора, профессор, поэт или ученый в любой области, кроме аберрантной биологии. Наверное, именно поэтому твой учитель так его любит – он видит в нем живое доказательство того, что не обязательно самому быть монстром, чтобы ловить монстров.
– Ага, – сказал я и хохотнул. – Монстром можно стать и без этого.
Она наклонила голову и посмотрела на меня с легкой улыбкой.
– Я видела сегодня Сэмюэля.
– Кого? – Я на самом деле забыл, кто это.
– Исааксона, посредственность. Он рассказал мне одну историю, замечательную настолько, что она просто не может быть правдой. Или это я все перепутала. Настолько, что она просто не может не быть правдой.
– О том, что я подвесил его с Бруклинского моста и грозил сбросить вниз, если он не скажет…
Она подняла руку.
– Пожалуйста, избавь меня от повторения.
– Честно говоря, я удивлен, Лили. Не думал, что ему хватит духу рассказать тебе об этом.
– А меня больше интересует другое. Если бы он ответил «да», ты что, действительно сбросил бы его в реку?
– Какая разница? – сказал я. – Он жив-здоров, так что не все ли теперь равно?
Я встал. Почему-то я чувствовал себя непомерно большим; даже пригнулся, чтобы не удариться головой о потолок. Лили не пошевелилась. Она продолжала лежать, как лежала, даже когда я подошел к ней вплотную. Опустившись рядом с кроватью на колени, я заглянул ей прямо в глаза.
– Чудовище умерло; чудовище бессмертно. Его можно поймать; его не поймает никто и никогда. Охоться за ним хоть тысячу лет, оно все равно избежит твоей хватки. Его можно убить, раскромсать на части и рассовать по банкам с формалином, или разбросать по четырем сторонам света, но оно все равно останется в одной десятитысячной дюйма от твоего поля зрения. И это будет все тот же монстр, только с другим лицом. Я мог убить его, неважно, как. Я убью его в следующий раз, и потом, и снова, и у него каждый раз будет новое лицо, хотя монстр останется прежним. Монстр всегда остается прежним.
В ее безупречных глазах стояли слезы, а еще я увидел в них страх, очень похожий на тот, что был в глазах отсеченной головы в коробке. А потом она схватила мое лицо обеими руками, и они оказались прохладными, сухими и гладкими, как шелк. Прижав свои губы к моим, она нежно прошептала:
– Не бойся, – живые влажные губы касались моих, – Не бойся, – сказали они снова, но я видел голову, торчащую из открытого рта ее дяди, янтарные глаза завораживали, стыдили, не отпускали, сокрушали, истирали меня в порошок.
Я был на кровати – не помню, как я туда попал, помню, что лежал, придавливая Лили своим весом, так же как меня придавливал неотступный взгляд янтарных глаз, а она одновременно противилась и уступала, боролась и поддавалась, ее желание было пропитано ненавистью, радость – страхом и невыразимой тоской.
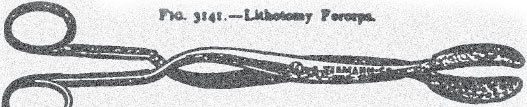
А во мне просыпалась тварь.
– Хватит, – сказала она, упираясь мне в грудь руками. – Уилл. Перестань.
– Не хочу.
– Мне плевать, чего ты хочешь.
Она ударила меня по лицу. Я оттолкнул ее и вывалился с кровати. Упал в буквальном смысле – мои ноги подогнулись, и я рухнул на пол. Сильно ударился коленом и застонал от боли.
– Ты не честен со мной, – сверху сказала она мне.
– В чем именно?
– Не знаю. Но ведь я права?
– Я ухожу.
– Так будет лучше.