— Не жмут? — бабушка пытается вставить палец между маминой пяткой и задником.
— Мама! Перестань! Мне сорок лет уже!
— Я просто хотела проверить, малы или нет, — оправдывается бабушка, — ты второй-то надень, Аня.
Мама надевает «второй», встает и, как манекенщица, стуча каблуками, ходит по комнате. От окна к зеркалу и обратно. Мы с Галиной не отрываясь смотрим на мамины ноги.
— Вроде не похоже, что малы, — говорю я тихонько бабушке. — Когда малы, так не ходят.
Тут мама останавливается посередине комнаты, закрывает глаза и блаженно улыбается.
— В самый раз! — сообщает она так, будто только что выиграла путевку в Италию. А у самой ямочки на щеках. И у меня тоже ямочки. И у бабушки. Это у нас наследственное: если случается что-то хорошее, по щекам сразу видно.
Мама включает свою любимую «Аббу», и мы танцуем, как в новогоднюю ночь после боя курантов. Дело в том, что все счастливые события у нас сопровождаются песней «Dancing Queen». Мы даже танец специальный придумали, в стиле диско. Последний раз мы его исполняли в тот день, когда художник пришел к нам со своей книжкой. Той, что мама корректировала. А сегодня вот туфли.
Галина, конечно, с нами не танцевала, а сидела, поскрипывала в кресле. Потом пошла на кухню, заглянула в холодильник и стала ворчать, что есть нечего. И мы принялись вместе варить спагетти и жарить гренки с омлетом. Аппетит проснулся у всех, даже у бабушки, а пирожки к тому времени были все съедены.
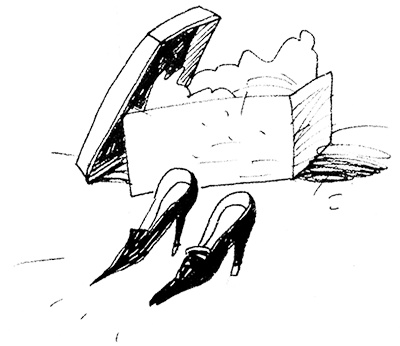
Глава тринадцатая. День квартета, или Мы грустим о кахетинском винограде
Если у нас дома стоит огромный букет белых хризантем, значит, сегодня пятнадцатое октября, Кирин день рождения. А больше всего на свете Кира любит белые хризантемы. Она их любит даже больше, чем своего скрипача и ученика Арсения, который чувствует дно клавиши. Поэтому ровно пятнадцатого октября я спускаюсь в подземный переход и выбираю самые большие из всех белых хризантем.
День рождения у Киры начинается прямо с утра. Это значит, что мы с мамой могли заскочить к ней еще в семь тридцать, перед школой и редакцией, и у нее, будьте уверены, был бы уже накрыт стол с хрустальными вазами, фужерами и салфетками.

Целый день ей несут цветы, ноты, пластинки и неизвестно что в красивых коробках. Ученики и музыканты приходят с утра, соседи заглядывают днем. А подруги к Кире не приходят, потому что у нее, кроме меня с мамой, нет подруг.
Каждый год пятнадцатого октября в семнадцать ноль-ноль в двенадцатой квартире за круглым столом собирается квинтет избранных. Это Кира так говорит. «Квинтет» значит пятеро. Кира, ее первый муж Мераб, ее второй муж Николай Николаич и мы с мамой. Сегодня мама в мастерской у художника составляет меню фуршета к выставке. Поэтому нас только четверо — квартет.
Мераб пришел тоже с хризантемами, только с желтыми. Сегодня он подарил Кире альбом живописи художников-сюрреалистов. Альбом толстый и дорогой. Это чувствуется по обложке, с которой, выпучив глаза и подняв усы на самый лоб, глядит Сальвадор Дали.
А Николай Николаич подарил серебряный браслет. Не простой, конечно, а старинный, с выдавленными узорами. Кира продела сквозь браслет гроздь винограда и поставила тарелку с фруктами на самое видное место. Это чтобы Николаю Николаичу было не так обидно, что альбом Мераба лежит на столике под торшером и мозолит всем глаза.
— Кирочка, подай-ка мне сыр, — ласково говорит Николай Николаич.
И пока Кира передает ему тарелку, в разговор вступает Мераб.
— А вы знаете, друзья, что во Франции и в Италии на сырной тарелке лежит не менее шести видов сыра! — произносит он нараспев и смотрит на меня.
— Что ты говоришь! — удивляется Кира. — Шесть видов!
— Да-да, твердые, мягкие и с плесенью, — с удовольствием заявляет Мераб и накладывает Кире салат.
— Как будто ты был во Франции, — хмыкает Николай Николаич.
— Был, — дружелюбно говорит Мераб. — Лет пятнадцать назад. На конференции.
— Это на той самой? — спрашивает Кира, и они с Мерабом начинают смеяться. — Ты еще забыл свой пиджак, и пришлось выступать в рубашке с коротким рукавом!
— Потому что в чемодан ты положила мне только с коротким! — басовито гремит Мераб и заразительно хохочет. — Ты представляешь, Ник, там кондиционеры кругом, дует так, что охота тулуп напялить, а я в коротком рукаве!
— Да уж, история, — смягчается Николай Николаич и тянется к рыбе в маринаде. — А я вот помню, как у нас в отделении выбили окно. В шестой палате, прямо у ординаторской. Ну, ты помнишь, где у нас ординаторская, — обращается он к Кире.
— Конечно, помню, там еще все время делали ремонт и никак не могли закончить.
— Да, так вот. Выбили окно. Прямо под Новый год. А мороз — под тридцать градусов. Стекольщика вызвали на завтра, а в палате больные, им как-то переночевать надо. Что делать? — спрашивает Николай Николаич и обводит всех взглядом.
— Одеялами заткнуть! — предлагаю я.
— Дать стекольщику больше денег — за срочность, — говорит Мераб.
А Кира ничего не говорит, только смотрит на всех счастливыми глазами и переставляет тарелки на столе.
— В общем, расселил я эту палату по соседним. Там все равно только двое были, — успокаивает нас Николай Николаич.
— Так чего ж ты сразу не сказал? — не успокаивается Мераб.
— Про что?
— Про двоих! Это же меняет дело!
— Тебе, может, и меняет, а мне — нет, — заявляет Николай Николаич и любовно смотрит на виноград в браслете.
Мераб отрывает одну виноградину.
— Итальянский, похоже, — отправляет черную ягоду в рот, тщательно жует и вздыхает. — Помню, когда мы еще жили на Шота Руставели, мама в воскресенье утром бегала на рынок. Покупала настоящий саперави. Черный как ночь.
— Чем же тебе итальянский не нравится? — спрашивает Николай Николаич и тоже тщательно жует виноградину.
— Настоящий саперави растет только в Кахетии, — грустно замечает Мераб.
И мы все печально жуем итальянские ягоды, думая о настоящем кахетинском винограде, который остался далеко-далеко в счастливом детстве Мераба.
— А давайте что-нибудь споем! — говорит Кира и вытаскивает из кладовки гитару.
На гитаре играет Мераб, Кира поет романсы. А мы с Николаем Николаичем сидим и ждем, когда она начнет петь «Сулико».
— Давай сегодня по-настоящему, — предлагает Мераб. — Или забыла?..
Кира не ответила и запела по-грузински — грустно и нежно, как будто она сама бродила, спрашивая у розы и соловья про могилу любимой Сулико. Мераб перебирал струны и, закрыв глаза, тихонько подпевал. Он, наверное, вспоминал свой старый дом в Тбилиси на улице Шота Руставели. Мы с Николаем Николаичем тоже пели, только по-русски, громко и радостно — «где же ты, моя Сулико-о-о». И все наконец были счастливы — и наш квартет, и старое пианино, и Кирин шкаф с блузками, и вазы с хризантемами. И даже, пожалуй, этот усатый Дали на обложке.

