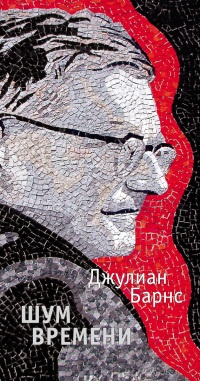
Дело было в разгар войны, на полустанке, плоском и пыльном, как бескрайняя равнина вокруг. Ленивый поезд два дня как отбыл из Москвы направлением на восток; оставалось еще двое-трое суток пути – в зависимости от наличия угля и от переброски войск. С рассветом вдоль состава уже двинулся какой-то мужичок: можно сказать, ополовиненный, на низкой тележке с деревянными колесами. Чтобы управлять этой приспособой, нужно было разворачивать, куда требовалось, передний край; а чтобы не соскальзывать, инвалид вставил в шлейки брюк веревку, пропущенную под рамой тележки. Кисти рук были обмотаны почерневшими тряпками, а кожа задубела, покуда он побирался на улицах и вокзалах.
Отец его прошел империалистическую. С благословения сельского батюшки отправился сражаться за царя и отечество. А когда вернулся, ни батюшки, ни царя уже не застал, да и отечества было не узнать.
Жена заголосила, увидев, что сделала война с ее мужем. Война-то была другая, да враги прежние, разве что имена поменялись, причем с двух сторон. А в остальном – на войне как на войне: молодых парней отправляли сперва под вражеский огонь, а потом к коновалам-хирургам. Ноги ему оттяпали в военно-полевом госпитале, среди бурелома. Все жертвы, как и в прошлую войну, оправдывались великой целью. Да только ему от этого не легче. Пусть другие языками чешут, а у него своя забота: день до вечера протянуть. Он превратился в спеца по выживанию. Ниже определенной черты такая судьба ждет всех мужиков: становиться спецами по выживанию.
На перрон сошла горстка пассажиров – глотнуть пыльного воздуха; остальные маячили за окнами вагонов. У поезда нищий обычно заводил разухабистую вагонную песню. Авось кто-нибудь да бросит копейку-другую в благодарность за развлечение, а кому не по нутру – тоже денежку дадут, лишь бы поскорей дальше проезжал. Иные исхитрялись монеты на ребро бросать, чтобы поглумиться, когда он, отталкиваясь кулаками от бетонной платформы, вдогонку пускался. Тогда другие пассажиры обычно аккуратнее подавали – кто из жалости, кто со стыда. Он видел только рукава, пальцы и мелочь, а слушать не слушал. Сам он был из тех, кто горькую пьет.
Двое попутчиков, ехавших в мягком вагоне, стояли у окна и гадали, где сейчас находятся и долго ли тут проторчат: пару минут, пару часов или же сутки. Никаких объявлений по трансляции не передавали, а интересоваться – себе дороже. Будь ты хоть трижды пассажир, а как станешь задавать вопросы о движении поездов – того и гляди примут за вредителя. Обоим было за тридцать – в таком возрасте уже крепко затвержены кое-какие уроки. Сухощавый, весь на нервах очкарик, из тех, которые слушают, обвешал себя чесночными дольками на нитках. Имени его попутчика история не сохранила; этот был из тех, которые на ус мотают.
К их вагону, дребезжа, близилась тележка с ополовиненным нищим. Тот горланил лихие куплеты про деревенские непотребства. Остановившись под окном, жестами попросил подать на пропитание. В ответ очкарик поднял перед собой бутылку водки. Из вежливости уточнить решил. Только слыханное ли дело, чтобы нищий выпить отказался? Не прошло и минуты, как те двое спустились к нему на перрон.
То бишь выдалась возможность сообразить на троих. Очкарик по-прежнему держал бутылку, а его спутник три стакана вынес. Налили, да как-то не поровну; пассажиры нагнулись и произнесли, как положено, «будем здоровы». Чокнулись; нервный худеряга склонил голову набок, отчего в стеклах очков на миг полыхнуло восходящее солнце, и что-то прошептал; другой хохотнул. Выпили до дна. Нищий тут же протянул свой стакан, требуя повторить. Собутыльники плеснули ему остатки, потом забрали стаканы и к себе в вагон поднялись. Блаженствуя от тепла, что растекалось по увечному телу, инвалид покатил к следующей кучке пассажиров. К тому времени, когда двое попутчиков обосновались в купе, тот, который услыхал, почти забыл, что сам же и сказал. А тот, который запомнил, только-только стал на ус мотать.
Часть первая
На лестничной площадке
Он твердо знал одно: сейчас настали худшие времена.
Битых три часа он томился у лифта. Курил уже пятую папиросу, а мысли блуждали.
Лица, имена, воспоминания. Торфяной брикет – тяжестью на ладони. Над головой бьют крыльями шведские водоплавающие птицы. Подсолнухи, целые поля. Аромат одеколона «Гвоздика». Теплый, сладковатый запах Ниты, уходящей с теннисного корта. Лоб, мокрый от пота, стекающего с мыска волос. Лица, имена.
А еще имена и лица тех, кого уже нет.
Ничто не мешало ему принести из квартиры стул. Но нервы так или иначе не дали бы усидеть на месте. Да и картина была бы довольно вызывающая: человек расположился на стуле в ожидании лифта.
Гром грянул нежданно-негаданно, однако была в этом своя логика. В жизни всегда так. Взять хотя бы влечение к женщине. Накатывает нежданно-негаданно, хотя вполне логично.
Он постарался сосредоточить все мысли на Ните, но они, шумные и назойливые, как мясные мухи, не поддавались. Пикировали, само собой разумеется, на Таню. Потом, жужжа, уносились к той девице, Розалии. Краснел ли он, вспоминая о ней, или же втайне гордился своей шальной выходкой?
Покровительство маршала – оно ведь тоже оказалось неожиданным и вместе с тем вполне логичным. А судьба самого маршала?
Добродушное, бородатое лицо Юргенсена – и тут же воспоминание о суровых, неумолимых маминых пальцах на запястье. И отец, милейший, обаятельный, скромный отец, который стоит у пианино и поет «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
В голове – какофония звуков. Отцовский голос; вальсы и польки, сопровождавшие ухаживание за Нитой; четыре фа-диезных вопля заводской сирены; лай бродячих собак, заглушающий робкого фаготиста; разгул ударных и медных духовых под бронированной правительственной ложей.
Эти шумы прервал один, вполне реальный: внезапный механический рык и скрежет лифта. Дернулась нога, опрокинув стоявший рядом чемоданчик. Память вдруг улетучилась, а ее место заполонил страх. Но лифт остановился со щелчком где-то ниже, и умственные способности восстановились. Подняв чемоданчик, он ощутил, как внутри мягко сдвинулось содержимое. Отчего мысли тут же метнулись к истории с пижамой Прокофьева.
Нет, не как мясные мухи. Скорее как комары, что роились в Анапе. Облепляли все тело, пили кровь.
Стоя на лестничной площадке, он думал, что властен над своими мыслями. Но позже, в ночном одиночестве, ему показалось, что мысли сами забрали над ним всю власть. И от судеб защиты нет, как сказано у поэта. И от мыслей тоже защиты нет.
Он вспомнил, как мучился от боли в ночь перед операцией аппендицита. Двадцать два раза начиналась рвота; на сестру милосердия обрушились все известные ему бранные слова, а под конец он стал просить знакомого, чтобы тот привел милиционера, способного единым махом положить конец всем мучениям. Пусть с порога меня пристрелит, молил он. Но приятель отказал ему в избавлении.

