С этим было сложно поспорить, и мы пошли ужинать.

Вторая четверть
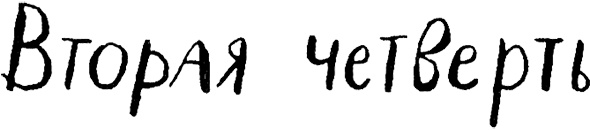
Каникулы кончились, и началась вторая четверть. Как раз тогда на улицах появились капоры. Капор — это такая шапка-капюшон из пушистой ангоры. Их стали носить все женщины в городе. Мы с Воробьем даже придумали игру «У кого больше капоров». Нужно было сосчитать всех теток в капорах в вагоне метро. Кто больше заметил — тот выиграл. Капоры были всех цветов: зеленые, малиновые, голубые, черные. Мы с Воробьем решили: в капорах ходят только потомники. И поклялись сами никогда капор не надевать.
Теперь я ездила в школу на метро: выпало много снега, и троллейбусы ходили редко. На эскалаторе я смотрела вниз, чтобы разглядеть Кита, — с тех пор как однажды мы встретились и вместе шли к школе.
В тот раз я еще не успела проснуться и не знала, о чем говорить. Но Кит сам говорил без остановки.
— Титомира слушают только гопники, — сообщил он, когда мы вышли на улицу.
— Ты же сам мне дал кассету?
— Это уже не модно.
— Почему?
— Совсем тупая? Только гопота слушает.
На всякий случай я решила не уточнять, что такое гопота.
— А что ты теперь слушаешь?
— Что-что… Металл, конечно. Слышала?
— Нет еще.
— Вообще круто. Хочешь, я тебе перепишу кассету?
— Давай.
На следующий день Кит принес мне кассету.
— Вот, держи.
— Круто, спасибо.
— Потом скажешь, как послушаешь.
Я щелкнула большим и средним пальцами: меня научил папа, и это было дико круто.
Когда я вернулась домой, мамы не было — они с Малюткой ушли по каким-то делам. Дедушка сидел в своей комнате, а папа, извергая громкие проклятья, пытался починить бачок в туалете, который уже месяц издавал страшные стоны и хлюпанья. Эти замогильные звуки мешали мне заснуть и, если честно, немного пугали.
Я пошла в свою комнату, вставила в мафон кассету и начала делать уроки. Сначала очень долго играла музыка, в принципе красивая, а потом очень мрачный дядька запел очень длинную песню. Потом в какой-то момент все в его группе как будто сошли с ума и начали со всей силы дубасить по барабанам. Я даже сделала чуть потише, потому что боялась, как бы уши у меня не полопались, как шарики на детском дне рождения. Через несколько минут в комнату ворвался папа. Видок у него был еще тот: рукава завернуты до плеч, край рубашки мокрый, лицо потное, а волосы и борода всклокоченные.
— Ты в своем уме?
— В смысле?
— Что это за кошмар?
— В смысле?
— Что ты слушаешь?
— Вообще-то это последний писк моды.
— На писк это не очень похоже — скорее на рев белуги.
— Чего-чего?
— Ничего. Сделай потише. Что за жизнь! — Папа хлопнул дверью и отправился обратно к унитазу.
Потом пришли мама с Малюткой. Мама тут же зашла ко мне и посмотрела на магнитофон с таким лицом, как будто ее сейчас стошнит.
— Что это?
— Музыка.
— На музыку не похоже.
— Вы ничего не понимаете.
— Уфки болят, — прошепелявила Малютка. Вечно так делает, чтобы взрослые еще больше на меня разозлились.
— Пойдем, котик, я тебе включу какую-нибудь пластинку.
И они ушли, чтобы вместе слушать на проигрывателе «Милая моя, солнышко лесное». Отстой.
На следующий день Кит подошел ко мне на перемене.
— Ну как, послушала?
— Да, весь вечер слушала. Одну стороны кассеты два раза и другую два раза. И еще в плеере по дороге в школу.
— Ну как?
— Вообще круто.
— Сечешь, — и Кит хлопнул меня по плечу.
В тот день Фигуры не было, и на перемене Кит начал приставать к Пукану. Кит кричал писклявым девчоночьим голосом:
— Пук-пукан сейчас пернет.
Но Пукан делал вид, что ничего не слышит. Тогда Кит отобрал у него бутерброд с черным хлебом и какой-то вонючей травой и начал им размахивать:
— Пук-пукан сел на диету! Антипуковскую диету!
Это было сказано ужасно по-дурацки, но в то же время очень смешно. И я расхохоталась.
— Килька, лови, — и Кит кинул мне пуканский бутерброд.
— Фу, гадость! — я завизжала и отскочила, и бутерброд плюхнулся на пол. Хлеб развалился на две половинки, а трава рассыпалась под партой.
— Пукан, слышь, ты че, корова — траву жевать? — заржал рядом Овца.
Пукан весь покраснел. Он встал, тихо подошел к бутерброду, опустился на корточки и начал собирать остатки.
— Блин, он с полу жрет, — заорал Кит. — Вот почему он пердит! У них вся семья с полу траву жрет.
— А может, во дворе пасетесь? Семья пуканских кызь! — Овца так хохотал, что чуть не падал.
Пукан стал почти багровый. Он уже собрал бутерброд, сложил его в маленький пакетик и сел обратно за парту. Тут в класс вошла завуч. На этот раз она была не в лосинах, а в длинной юбке.
— Ребята, последнего урока не будет. Сейчас пойдем на первый этаж на общешкольный молебен.
— А чего, урока не будет? — закричали мы.
— Так, успокоились все и за мной шагом марш.
Мы спустились по лестнице и встали вдоль коридора. В этот раз все делал папа Овцы. У него было такое же овечье лицо и кудрявые волосы, только седые. Он махал дымящейся банкой и брызгал в нас водой, а все — кроме меня, конечно, — бухались на колени и крестились. Особенно было странно, когда это делали Кит с Овцой, — по идее, им все это должно было казаться дурацким, но лица у них были самые серьезные.

Однажды Кит собрал всех на перемене. То есть не всех, а Сыроежку, Овцу, Воробья и меня.
И еще Головастика, хотя вообще-то Кит и Овца его немного презирали. Кит сказал:
— Короче, теперь мы все металлисты. А кто не металлист, тот гопник и потомник.
— Металлист — это как? — не понял Головастик.
— Ты че, кызя? Вон Килька знает, что такое металлист. Давай, скажи ему.
— Ну, это музыка такая… Тяжелая.
— Вот. А еще прикид: металлисты носят банданы, цепи разные, нашивки с черепушками, надписями там всякими, — Кит показал на рюкзаке нашивку с розой и черепом.

