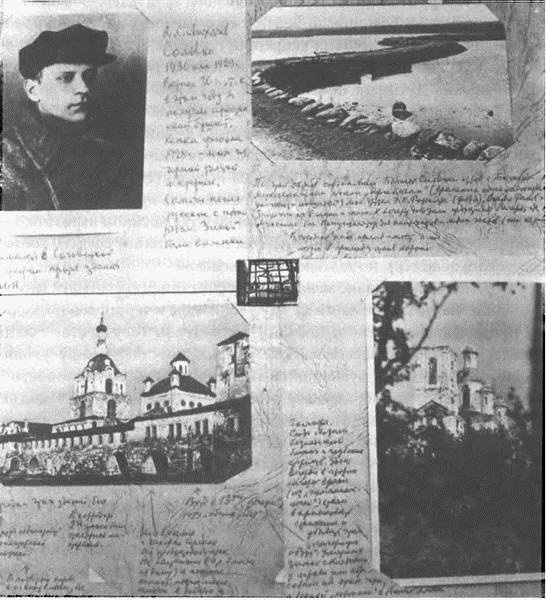Другой случай произошел во время посещения лагерного театра: когда почетный гость во время перекура отошел от своих бдительных сопровождающих, его буквально завалили рукописными материалами, которые вскоре бесследно исчезли, когда один из его чемоданов был украден
{483}.
Горький решил использовать свое положение вернувшегося из-за границы героя не для того, чтобы обратить внимание на страдания заключенных, а чтобы донести до всех образцовую картину тех изменений, которые он наблюдал во время своей поездки «по Союзу». Показав СЛОН таким, каким он должен был быть, а не таким, каким он являлся, Горький отказался от роли бунтующего босяка и облачился в мантию великого пролетарского писателя — почетный статус, приобретенный им в последующие годы.
Когда Горький описывал Соловки как место перевоспитания, он проигнорировал или обделил должным вниманием многие вещи: массовую смертность от непосильного труда, стремление извлечь из принудительного труда максимум выгоды, наказания тяжелой работой в виде таскания воды вверх и вниз по лестницам, доводившие заключенных до изнеможения, и т.п. Один из бывших узников Соловков в своих воспоминаниях обвинял Горького в том, что он «морально оправдал истребление миллионов людей в лагерях». Обманув мировую общественность, Горький упустил шанс стать Вольтером, Золя или Чеховым и стал тем, кого он больше всех презирал, — самым заурядным обывателем
{484}. Это моральное осуждение подчеркивает подмену истины ложью. Но Горький не просто обманывал — он создал систему самообмана в массовом масштабе. Писатель не выдумывал наличие системы перевоспитания и «культурно-просветительской» работы на Соловках — он усиливал черты нехарактерного образца, который действительно существовал; это привело к переопределению реальности, что явно напоминает методы, при помощи которых иностранцев пытались заставить «правильно» воспринимать стройки коммунизма.
«Вовсе не все ограничивалось страданиями, унижением, страхом», — писал один из самых знаменитых заключенных, будущий академик Дмитрий Лихачев, которого арестовали, когда он был еще начинающим филологом и лингвистом. Лихачев наблюдал лагерную жизнь из своей камеры, где составлял по заказу лагерного начальства словарь уголовного жаргона. «В ужасных условиях лагерей и тюрем в известной мере сохранялась умственная жизнь». Заключенные в полной мере воспользовались благоприятной возможностью, которую им предоставляла официально разрешенная «культурно-просветительская работа»; в результате контраст между тяжелейшими условиями физического выживания и сравнительным процветанием интеллектуальной жизни стал просто удивительным. В лагере существовали музей, лекционный зал и театр, который считался одним из лучших в стране за пределами столичных городов; управлял всем этим «просветительско-трудовой отдел» лагерной администрации. По мнению одного из заключенных, лагерные журнал и газету можно было отнести к числу самых свободных печатных изданий в СССР. Сам Лихачев в конце концов уцелел лишь благодаря синекуре в криминологической лаборатории, возглавлявшейся бывшим царским прокурором, где заключенные-ученые (один из них получил докторскую степень в Сорбонне) проводили социологические исследования.
Один бывший заключенный полагал, что эта деятельность была начата не для демонстрации перед международным общественным мнением, но по указанию высшего партийного руководства. Другими словами, он считал, что старым большевикам позволили верить в то, что гуманное перевоспитание действительно имело место. Возможно. Тем не менее неудивительно, что большинство заключенных возвращались после дневной работы настолько измученными, что ни о какой культурной деятельности не могло быть и речи, о чем с недовольством писал в лагерном журнале один из работников администрации лагеря
{485}.
С самых первых лет революции мысль о том, что преступность обуславливалась окружающей повседневностью и могла быть искоренена с помощью перевоспитания и труда, противоречила классификации неисправимых врагов. Многие историки отмечают явное усиление эссенциализации социальных, политических, а к концу 1930-х годов и этнических категорий классификации населения, что значительно ослабило воспитательную составляющую раннесоветской уголовной политики. Даже при этих условиях в начале 1930-х ГУЛАГ, по мнению Хлевнюка, еще не «обрел исключительную жестокость» конца того же десятилетия и определенный «карательный идеализм» революционного периода здесь все еще сохранялся
{486}. В некоторых конкретных случаях «культурно-просветительские» учреждения в лагерях оставались до 1930-х годов довольно многочисленными, как, например, вДмитлаге, расположенном к северу от Москвы, где подневольный труд использовался для сооружения части Беломорско-Балтийского канала. Свирепый ураган насилия во времена массовых репрессий привел к дальнейшему ухудшению лагерных условий, а сторонники идеи перевоспитания, такие как начальник Дмитлага Семен Фирин, были расстреляны за «сочувствие преступникам и рецидивистам»
{487}. Однако даже в более поздний период некоторым заключенным удавалось с помощью «культурно-просветительской работы» стать лояльными подданными режима. Стивен Варне доказал, что различные виды исправительных учреждений внутри ГУЛАГа имели тенденцию воспроизводить практики и институты, характерные для советской системы, но в ухудшенном варианте, т.е. в определенном смысле «советские власти стремились создать копию советского общества, но за колючей проволокой»
{488}.
[43]
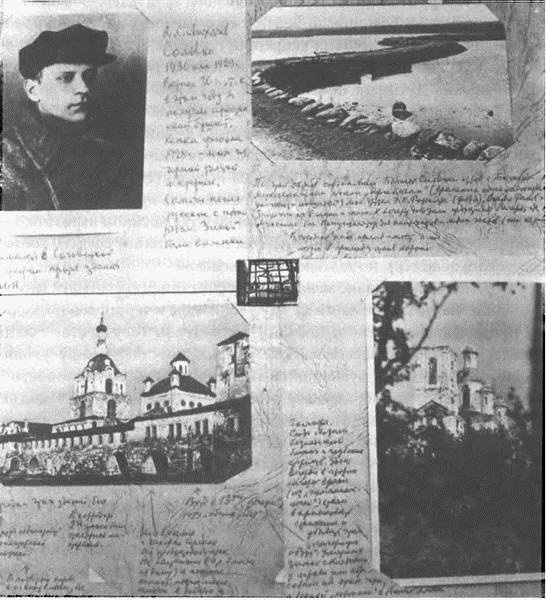
Илл. 4.2. Страницы из альбома времен заключения в лагере (1926–1930) будущего академика Д.С. Лихачева. Альбом был представлен на выставке на территории бывшего Соловецкого лагеря в 1989 году. Подписи под фотографиями сделаны им собственноручно.
(Фотоархив РИА «Новости».)
Переменчивый баланс между перевоспитанием и стигматизацией был лишь частью отношений между утопизмом и террором, поскольку история политического насилия в советском государстве всегда характеризовалась диалектической напряженностью между утопическими планами и чудовищной катастрофой бесчеловечности
{489}. Примечательно, что образцовые учреждения стали основной частью этой внутренней логики. Перспективу отмирания тюрем, одобренную Горьким, разделял его друг, председатель ГПУ Г. Ягода. В его абсолютно фантастической внутренней докладной записке от апреля 1930 года речь шла о дальнейшем расширении нового проекта «специальных поселений» в качестве «экспериментально-показательных» учреждений для заселения Крайнего Севера. В свою очередь, Ягода опирался на январский того же года доклад Ф.И. Эйхманса — по-военному настроенного начальника Соловецкого лагеря в 1923–1929 годах. Последний с гордостью доказывал, что трудовой лагерь является новаторской моделью, которая помогла обустроить границу и может сыграть решающую роль в индустриализации. И теперь Ягода рисовал в своем воображении то, что уже обретало форму кошмарно-разрушительного эксперимента в спецпоселениях для высланных на Север; он предсказывал, что трудовые и тюремные лагеря будут восприниматься как остатки буржуазного прошлого; без необходимости охранять тех, кто не будет иметь желания убежать, вся местность окажется усеянной пролетарскими шахтерскими городками. У Лихачева есть перекликающиеся с запиской Ягоды воспоминания, когда он пишет о «маниакальных» начальниках Соловецкого лагеря и «фантасмагорической атмосфере», которую они создали, избегая небольших практических проектов в пользу нелепых планов
{490}. Как и в случае с показухой для иностранцев, мнимо универсальные идеальные модели маскировали и даже оправдывали ужасающую реальность.