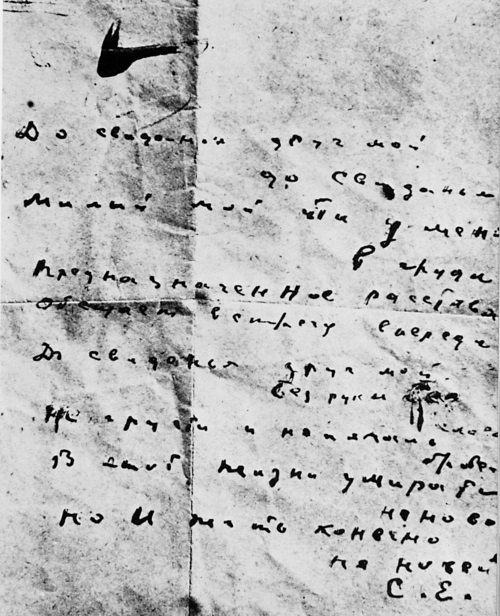– Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.
Клюев действительно не заметил.
Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров.
Есенин читал последние стихи.
– Ты, Николай, мой учитель. Слушай
[1683].
Когда Есенин закончил читать, он “потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи”
[1684]. То, что произошло дальше, но-настоящему, всерьез омрачило последнюю встречу двух поэтов. Клюев не принял новые есенинские стихи, он, как и Юрий Тынянов, счел их примитивными и сусальными и не стал этого особенно скрывать.
“Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:
– Я думаю, Сереженька, что если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России”
[1685].
Устинову Есенин потом рассказывал, что он “выгнал Клюева” из номера
[1686]. Но это было не так. Учитель и ученик расстались вполне мирно, более того, Клюев даже “обещал прийти вечером, но не пришел”
[1687]. Пять лет спустя Ольга Форш в своем романе “Сумасшедший корабль” воспроизвела впечатления Клюева от этой встречи с Есениным:
– <…> В последний раз виделись, знал – это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила…
– Зачем же вы оставили его одного?
– Много раньше увещал, – неохотно пояснил он. – Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, – плакал
[1688].
“Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Это была страшная петербургская ночь”, – вспоминает П. Мансуров
[1689], осознанно или неосознанно отсылая читателя к заглавию и антуражу второй части “Записок из подполья” Ф. М. Достоевского: “По поводу мокрого снега”.
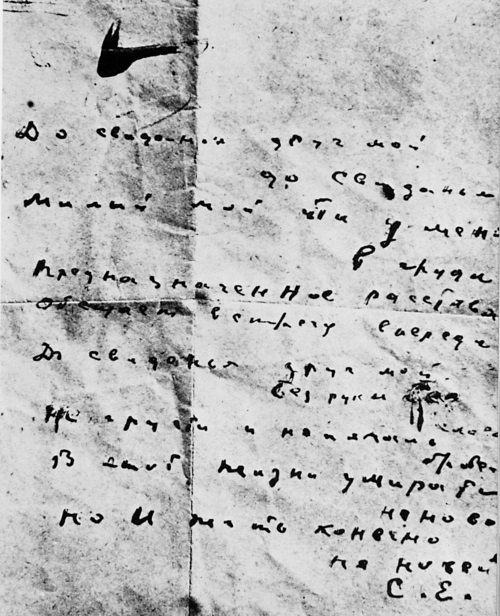
Рукопись последнего стихотворения С. Есенина
“До свиданья, друг мой, до свиданья…”, написанного 28 декабря 1925 г.
Утро 26 декабря началось с обсуждения вчерашнего клюевского визита. Есенин “бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его”
[1690]. В этот день “разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали <…> Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно: праздники, все закрыто”
[1691].
Поэт вновь читал собравшейся в номере компании стихи, в том числе несколько раз “Черного человека”.
“Пел песню. По его словам – это была песня антоновских банд:
Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.
Ах, доля-неволя,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Могила темна.
На заре каркнет ворона,
Коммунист, взводи курок!
В час последний похоронят,
Укокошат под шумок.
Ах, доля-неволя,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Утром 27 декабря Есенин напугал и рассердил Елизавету Устинову и Вольфа Эрлиха.
“Он говорит:
– Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!
Он засучил рукав и показал руку: надрез.
Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку”
[1693].

Номер 5 в гостинице “Англетер”. Ленинград. 28 декабря 1925
Есенин снова повел себя как заигравшийся пятиклассник, прилюдно бахвалящийся своим безрассудством (“Смотри, что я сделал!”), а втайне надеющийся, что его отведут от опасного края, успокоят и пожалеют. Иначе зачем было демонстрировать Устиновой, которую поэт явно воспринимал как добрую, хотя и ворчливую представительницу мира “взрослых” (“тетя Лиза”), свои порезанные вены?

Тело Сергея Есенина спустя несколько часов после смерти 28 декабря 1925
Кажется весьма вероятным, что на сходную реакцию был рассчитан и следующий за только что описанным жест поэта.
“Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: