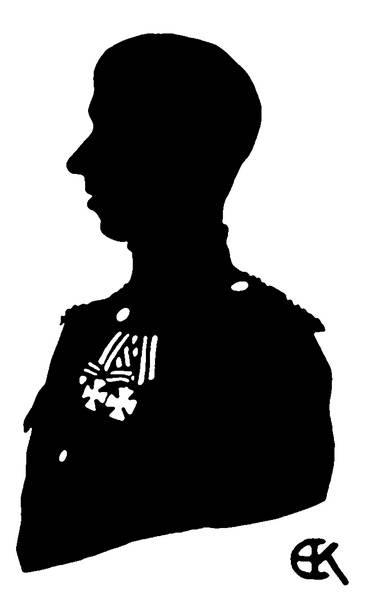Здесь уланам предстояли бои уже не наступательного, а оборонительного характера. Немцы предприняли наступление на Ивангород и Варшаву, которое удалось остановить. 20 ноября состоялось сражение у Петрокова. Атака немцев была отбита с большими потерями. Командир 1-й бригады генерал-майор Лопухин был ранен (и через несколько дней умер), и командование бригадой перешло к Княжевичу, командиру уланского полка. Гумилев накануне боя и после него, в ночь с 20 на 21 ноября, участвовал в боевой разведке.
Отношение к разведке в армии было традиционно сложным. Пережитки средневековых представлений о доблести, несовместимых с «военной хитростью» и шпионством, были очень живучи. В дни наполеоновских войн, да и позднее, армии прибегали к услугам «лазутчиков» из местного населения, обычно евреев (так как они понимали несколько языков), к которым относились в высшей степени пренебрежительно. «Шпионы» не считались военнопленными и подлежали смертной казни через повешение. Брюссельская декларация 1874 года, принятая по инициативе России и посвященная «правилам войны», подчеркивает: «Военные, проникшие в пределы действия неприятельской армии с целью рекогносцировки, не могут быть рассматриваемы как шпионы, если только они находятся в присвоенной им одежде». К «шпионам» не относились также разведчики-воздухоплаватели (видимо, из пиетета перед технической новинкой). Бывали исключения: славный партизанский командир 1812 года Фигнер лично ходил на разведку в мундире неприятельской армии или в крестьянской одежде; но Фигнер вообще пренебрегал правилами ведения войны — на его совести убийства пленных и другие военные преступления, так шокировавшие благородного Дениса Давыдова. Первая мировая война, конечно, не оставила от прежней феодальной этики и следа — но она только начиналась.
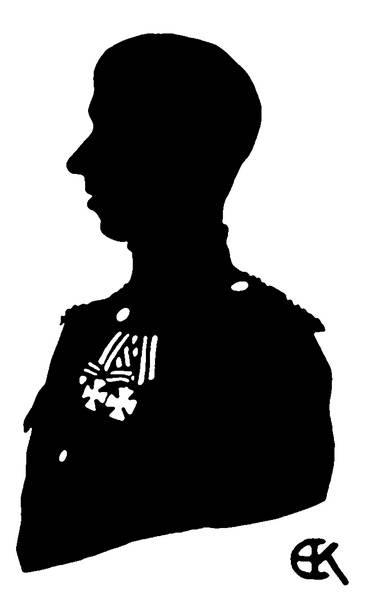
Николай Гумилев — георгиевский кавалер. Силуэт работы Е. С. Кругликовой, 1916 год
Та разведка, в которой участвовал Гумилев, была «благородной». В «Записках кавалериста» он описывает ее так:
Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.
Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям, и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.
Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.
Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык…
«Языка» Гумилев и его товарищ не привели, но «все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест».
Награждение Гумилева Георгиевским крестом 4-й степени в числе шестидесяти пяти нижних чинов полка «за дело 20 ноября 1914» было высочайше утверждено приказом № 286 от 28 апреля 1915 года. Но крест ему был вручен еще в конце декабря 1914-го (приказом по корпусу от 24 декабря). 13 января он был произведен в ефрейторы (что автоматически предполагало награждение Георгиевским крестом), а всего через два дня — в младшие унтер-офицеры.
Орден Святого Георгия — почетнейший из боевых орденов старой России, восстановленный в постсоветское время, был учрежден 26 февраля 1769 года — в год рождения Наполеона. По тогдашним российским представлениям, к ордену как корпорации мог принадлежать лишь дворянин — офицер или статский чиновник; соответственно, лишь он мог быть орденом награжден. Купцы получали медали. Статус Святого Георгия был чисто военным, и орденом этим награждали исключительно офицеров, причем с 1805 года — не по выслуге, а лишь за боевые подвиги.
Солдатские Георгиевские кресты (знаки ордена Святого Георгия) не означали принадлежности к орденскому сообществу, но давали награжденному определенные вполне земные права, прежде всего освобождение от телесных наказаний и повышенное (при многократном награждении — двойное) жалованье. Первые награждения солдат Георгиевским крестом относятся еще к 1769 году, но официально он был учрежден только в 1807-м. Первоначально существовал крест лишь одной степени, но позднее было учреждено четыре степени этой награды — так же, как и собственно ордена Святого Георгия, причем, по статуту 1913 года, нельзя было сразу получить Георгиевский крест высшей степени в обход низшей. Всего к 1917 году выдано было около миллиона крестов 4-й степени. Именно такой крест получил в апреле 1915-го Гумилев. В отличие от офицерского, солдатский Георгий был не из белого, а из желтого металла, но носился на такой же черно-желтой ленте. Мотив черного и золотого, черного и огненного бога возвращается с неожиданной стороны.
Мандельштам рассказывал Лукницкому:
Николай Степанович говорил о «физической храбрости». Он говорил о том, что иногда очень храбрые люди по характеру, по душевному складу бывают лишены физической храбрости… Например, во время разведки валится из седла человек заведомо благородный, который до конца пройдет и все что нужно сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла. Я думаю, он был наделен физической храбростью. Но, может быть, это было не до конца, может быть — это темное место, потому что слишком горячо он говорил об этом.
Не случайно Гумилев об этом говорил именно Мандельштаму, которого он называл (по свидетельству Одоевцевой) «легкомысленнейшим трусом». Это происходило в 1920 году, когда отношения двух поэтов на краткое время усложнились и они не прочь были посоревноваться в невинной язвительности на счет друг друга. Лозинский в это же время звал Мандельштама «кроликобарсом».