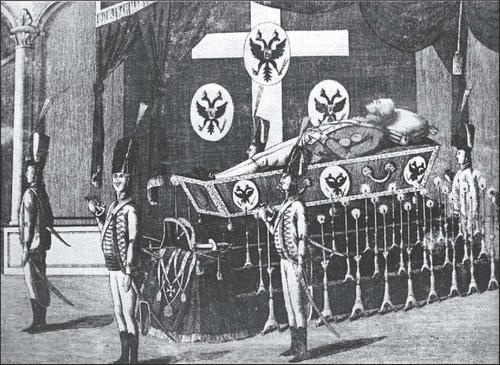Однако в дальнейшем военная униформа, вернее генеральский мундир – стала обязательной погребальной одеждой российских самодержцев. На императоров накладывали орденские знаки. Конечно, император был вправе оставить последнюю волю, оговорив и то, как он хотел бы выглядеть в момент своего последнего официального «выхода». Например, император Александр II был одет в мундир Преображенского полка, шефом которого с момента его создания традиционно считался государь, но на груди у него не было знаков отличия. Незадолго до смерти он говорил М. Палеологу: «Когда я появлюсь перед Всевышним, я не хочу иметь вида цирковой обезьяны. Не время тогда будет разыгрывать величественные комедии».
[489] Желание усопшего было выполнено. По посмертному изображению монарха в гробу можно судить о том, что на груди его лежат часы и нет никаких воинских знаков.
Великим князьям полагался военный мундир в зависимости от звания усопшего. На женщин надевали парадное, обычно светлое платье. В этом отношении «основным», т. е. образцовым для подобных случаев, стал церемониал погребения цесаревны Анны Петровны, составленный графом Ф. Санти в 1728 г.: «…тело покойной одето в серебряное глазетовое платье с длинным шлейфом, вокруг обшитое золотым флером, сверху надета лента ордена Св. Екатерины, но без креста».
[490] За неимением достойных примеров для составления ритуала и в связи с тем, что он не отыскал церемониалов погребения малолетних дочерей Петра I, в составлении которых мог принимать участие их отец, граф Санти вынужден был руководствоваться примерами иностранных
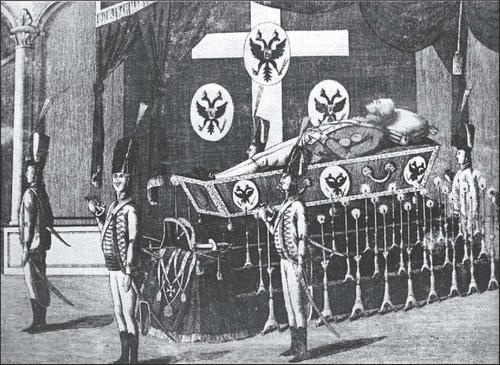
Император Павел I на смертном одре. Гравюра XIX в.
государств, в первую очередь австрийского и французского, «как славнейших дворов», всегда являвшихся ориентирами в организации придворной жизни в России с начала XVIII в. Императрица Елизавета Петровна была одета в «богатое парчовое платье с золотыми травами по серебряной земле»,
[491] что в переводе на современный язык означает: платье было из серебряной парчи с вытканными на ней золотыми нитями узорами. Екатерина II была «облачена в русское платье из серебряной парчи с золотой бахромой с поэндишпаном и длинным шлейфом».
[492] Императрица Мария Федоровна сама одела свекровь с помощью комнатных девиц и камердинеров, помогавших ей несколько раз поднимать тело для надевания платья.
[493] На императрице Елизавете Алексеевне было «платье белое, русское, глазетовое, гарнировано (украшено. – М. Л.) питинетом (кружевом. – М. Л.) с серебром, сверху орден Андрея Первозванного – звезда и лента»,
[494] на руках – белые лайковые перчатки, на ногах – белые атласные башмаки. В подобном русском платье из серебряного глазета с длинным шлейфом хоронили императрицу Марию Федоровну в 1828 г.
[495]
Одетое и набальзамированное тело укладывали на парадный одр или кровать, служившую монарху при жизни, обитую малиновым бархатом и серебряным флером, подбитым золотым газом и с такими же вензелями покойного, и относили в Почивальную, где продолжалось дежурство и чтение Евангелия.
Следующим актом похоронного действа было перенесение тела в Тронную комнату, для чего там снимали трон, и, после утверждения новым императором церемониала, в назначенный день и час вся царская фамилия собиралась в спальне, где уже находился Санкт-Петербургский митрополит с членами Святейшего синода, придворным духовенством и певчими. Всем раздавались свечи. Пожалуй, самым важным моментом данной церемонии было возложение на главу усопшего монарха специальной погребальной короны, что выводило действо на уровень акта, сходного с коронованием и значительно отличало императорские похороны от погребения любого из его подданных. Верховный маршал подносил на золотой глазетовой подушке новому монарху специально изготовленную корону, которую его величество надевал на голову усопшего родителя или родственника.
Погребальные короны
Придворному ювелиру заказывали после смерти монарха две серебряные вызолоченные короны по форме императорской, одну – для возложения на главу усопшего государя, а другую – для несения в Печальном кортеже. Вопреки распространенной версии об использовании только драгоценных металлов и камней в XIX в., короны делали из серебра и золотили, они были простыми, «без каменьев, внутри. малиновые бархатные шапки, подбитые атласом»,
[496] впрочем, и Большая Императорская корона также имела внутреннюю малиновую бархатную шапочку. Этот венец предназначался для надевания на голову усопшего монарха, и в нем правителя хоронили.
Специальные похоронные венцы надевали на голову усопших. В этом деле могли возникнуть и некие затруднения, как это случилось, например, после смерти императрицы Елизаветы Петровны.
[497] Вначале ее голову украшала корона с многочисленными бриллиантами, но потом ее сменила специально сделанная траурная золотая корона, в которой императрицу и похоронили. Работа над погребальным венцом была поручена ювелиру Георгу Фридриху Экарту, но его постигла неудача: его корона оказалась мала, потому что голова покойной императрицы распухла, и надеть на нее украшение оказалось невозможно. Данным обстоятельством воспользовался соперник Экарта ювелир Жереми Позье, сделавший погребальную корону на винтах и сам с помощью щипчиков расширивший нижний обруч до необходимого размера, осуществив, таким образом, пригонку короны прямо на голове усопшей. Несмотря на то что отреставрированная бриллиантовая корона Экарта все же занимала свое место среди регалий Елизаветы Петровны, возложенная на специальный табурет рядом с ее гробом, оплошность Экарта позволила Позье потеснить конкурента.
Во время подготовки к совместным похоронам Екатерины II и Петра III уже 17 ноября 1796 г. «художники Теремины» (братья Пьер-Этьен и Франсуа-Клод Термен) подали счет за изготовление двух императорских золотых корон,
[498] скорее всего, ювелиры Термен делали короны для украшения головы усопших в гробу. На голову Екатерины II и Петра III по церемониалу, утвержденному императором Павлом Петровичем, возлагали Императорскую корону, которую перевозил А. Б. Куракин из Зимнего дворца в Александро-Невский монастырь и обратно. Павлом I было дано особое указание относительно возложения короны на голову Екатерины II: «Когда Castrum Doloris и траурная зала будут готовы, то по приказу их императорских величеств тело камергеры положат в гроб, ее императорское величество наложит на тело усопшей корону, тело будет перенесено в Печальную залу и поставлено будет на Castrum Doloris».
[499]25 ноября назначенные чины собрались в комнату перед кабинетом императора для принятия короны, которую нес вице-канцлер князь А. Б. Куракин с ассистентами. Торжественная процессия перевезла корону в Александро-Невский монастырь.
[500] Император вошел в царские врата, взял с престола приготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам родителя своего, снял с главы своей корону и при возглашении вечной памяти положил ее на гроб почившего императора. Церемония происходила утром, а в 12 часов пополуночи того же дня назначено было перенесение короны для надевания на голову Екатерины с такой же церемонией, как возлагали ее на гроб Петра III те же особы.
[501] Это была «регалия», однако существовала и погребальная корона, которую императрица Мария Федоровна возлагала на главу усопшей императрицы.
[502]