Мы переночевали одну ночь у Максимовых. И наутро на «Конкорде» полетели в Штаты. Нас немедленно перевезли в Дом свободы, Фридом Хаус, где была огромная пресс-конференция. На ней присутствовал Андрей Седых, который был когда-то бунинским секретарем. И он опубликовал в «Новом русском слове» хвалебную статью на целый разворот. А в конце написал: «И потом она завернулась в черную шаль, и по лицу ее покатились крупные слезы». Гинзбург меня потом все время высмеивал.
Вскоре мы поехали к Солженицыным в Вермонт и жили там несколько месяцев. И туда нам позвонили из Парижа и предложили мне работать в газете «Русская мысль». И уже в июне мы уехали в Париж…
Да, сегодня диссидентство не востребовано. Оно не было востребовано даже в перестройку. Но на самом деле это глубинно важный момент в истории России. Потому что российское общество глубинно научилось милосердию. И еще. В советской России была уничтожена самая креативная часть российской культуры, науки и общественной жизни. И на фоне расчеловечивания диссиденты стали делать свою работу. Иногда казалось, что бьешься в глухую стенку. Но нет. Я думаю, что при всем том, что нынешние годы — это откат назад, все-таки многое дало результат.
Я не была никогда отважным диссидентом. Я не могла бы, наверное, как Наташа Горбаневская, с маленьким ребенком пойти на площадь. Но у каждого свои тропинки и пути. Я просто делала свое дело, была сама собой. Вообще это было замечательное время моей жизни, несмотря ни на что. «Мам, — говорит мне старший сын Санька. — Это значит, что у нас было счастливое детство». Понимаете?
Наталья Горбаневская

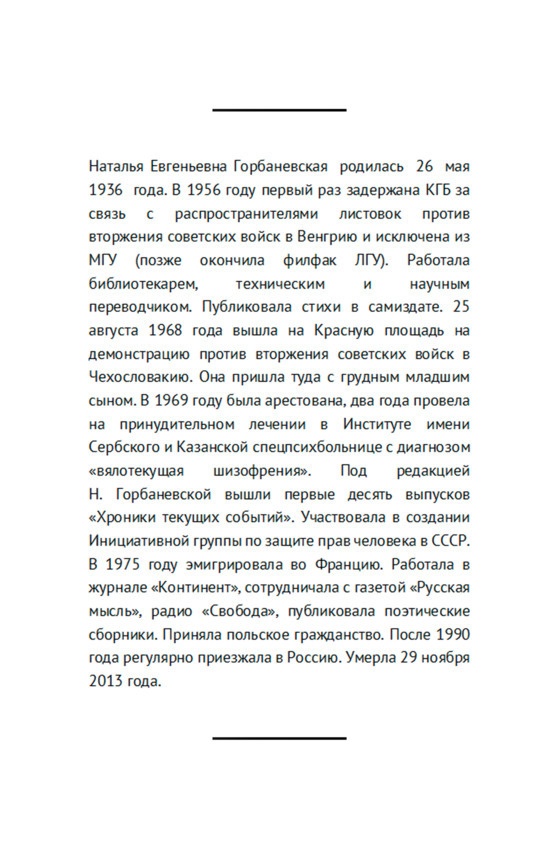
Родители у меня были — мама и бабушка. Что думала моя бабушка о советской власти и вообще о происходящем, я совершенно не знаю, тем более что бабушка умерла, когда мне было четырнадцать лет. В то время никаких таких вольных разговоров в доме не велось. Я помню, мама бывала у своей приятельницы, чьего мужа репрессировали в 37-м году, и говорила так: «Лес рубят — щепки летят, вот ее муж ни в чем виновен не был, но его тоже посадили». По тем временам сомневаться в том, что он был виновен, — это уже довольно смелая фраза.
А много лет спустя мне Люся Улицкая рассказала, что уже после моей эмиграции она была у моей мамы, и та ей говорит: «Как же так, у Наташи все-таки двое детей, надо было думать». Люся возражает: «Евгения Семеновна, Наташа не могла иначе». И вдруг мама рассказывает: «А к нам на работу в 37-м году приехали из НКВД на собрание и говорят: у вас Михаил Моисеевич — враг народа. Я встала и говорю: месяц назад мы ему здесь благодарность выносили, как же это он теперь оказывается врагом народа?» Люся на нее смотрит: «Евгения Семеновна, у вас же тоже было двое детей, а в 37-м году так выступить было куда опаснее».
То есть смелость и стремление к справедливости у нее всегда были. Это не политические взгляды, это другое. Я на маму очень похожа и внешне, и темпераментом, поэтому у нас бывали очень сложные отношения, мы с ней сталкивались. Но при этом тайно очень любили друг друга; тайно — потому что у нас в семье была принята сдержанность в отношениях.
Когда мне было семнадцать-восемнадцать лет, все вокруг читали стихи, поэтов начала XX века переписывали от руки, потому что машинки были редкостью, искали в букинистических магазинах — там можно было найти даже прижизненные издания Гумилева. Поэзия как бы взращивала в нас, ее читателях, свободу, потому что она с несвободой несовместима. Кроме того, поэзия Серебряного века не переиздавалась, и то, что ее от нас скрыли, уже настраивало антисоветски. Стихи меняли нас, мы становились другими людьми. Меняли настолько, что летом 1956 года, когда я во второй раз поступала в Московский университет, на филфак, мы с моим новым приятелем, который поступал на журналистику, оба ругали советскую власть, но я подумала: «Он ругает советскую власть с советских позиций, а я с антисоветских».
И тут произошло нечто страшное. Весной 1957-го моих друзей с филологического факультета МГУ арестовали по подозрению в антисоветчине, а меня взяли на три дня на Лубянку, и я дала на них показания. Полтора дня просидела, все отрицала, а потом во мне вдруг взыграло комсомольское сознание, и я начала их сдавать. Это самый мрачный момент в моей жизни, который я себе не простила никогда. После чего несколько лет старалась молчать в тряпочку и ни во что не лезть. Но друзья-диссиденты у меня оставались. Я познакомилась с Аликом Гинзбургом, влезла в «Синтаксис», который он издавал. Он тогда делал третий номер, я сразу стала ему помогать — на машинке печатать. Все это опять же происходило на фоне сочинения и чтения стихов; уже года с 54—55-го в обороте появились стихи моих ровесников. Это оставалось главным, и я думаю, что стихи меня и вытянули из ямы, в которую я сама себя загнала.
А еще был самиздат, которым занимались все. Своей машинки у меня не было вплоть до 1964 года, пока мама мне не подарила, чтобы я писала диплом. (Впрочем, я и раньше печатала — на чужих машинках.) Самая знаменитая история моей самиздатской деятельности — распечатка «Реквиема» Ахматовой. Я пришла к Ахматовой, которая жила тогда в Москве у Маргариты Алигер, она мне дала «Реквием», я села и в ее присутствии переписала. И Анна Андреевна сказала: «До вас тем же карандашиком Солженицын переписал». А «карандашик» — это была шариковая ручка. Потом я у кого-то нашла машинку, перепечатала и дальше давала людям экземпляр и говорила: «Вернете мне мой и еще один». Сама я сделала по крайне мере пять закладок по четыре штуки.
Один экземпляр я дала Анджею Дравичу, поляку-литературоведу. А когда «Реквием» вышел на Западе, Анна Андреевна сказала: «Мне сообщили, что „Реквием“ дошел туда через Польшу. Ох, Наташа, не надо было давать этому поляку». Потом качнула головой и говорит: «Ну конечно, я понимаю, такой красивый поляк». Много лет спустя я встретила Анджея уже в Париже, и он сказал, что не имел никакого отношения к передаче «Реквиема» на Запад. В общем, я думаю, что от моих двадцати экземпляров родилось не меньше двухсот, а всего тираж «Реквиема» по России доходил до нескольких тысяч, так что не «утечь» он просто не мог.
Через десять лет, в 1973 году, на Украине будут судить Рейзу Палатник, и «Реквием» станет основанием обвинения: распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Но в первой половине 60-х годов заниматься самиздатом, особенно поэтическим, было почти не опасно. Если это не был какой-то чисто политический, скажем национальный самиздат в республиках или религиозный самиздат, то даже если его забирали на обысках, сажали редко. Буковского, правда, посадили за фотокопию книги Джиласа «Новый класс», но это была матерая антисоветчина. В 1965 году прошли аресты и процесс в Ленинграде по делу «Колокола», посадили девять человек, но, опять же, это был чисто политический журнал, левый, полумарксистский, выражавший сомнения в том, что в Советском Союзе все правильно.

