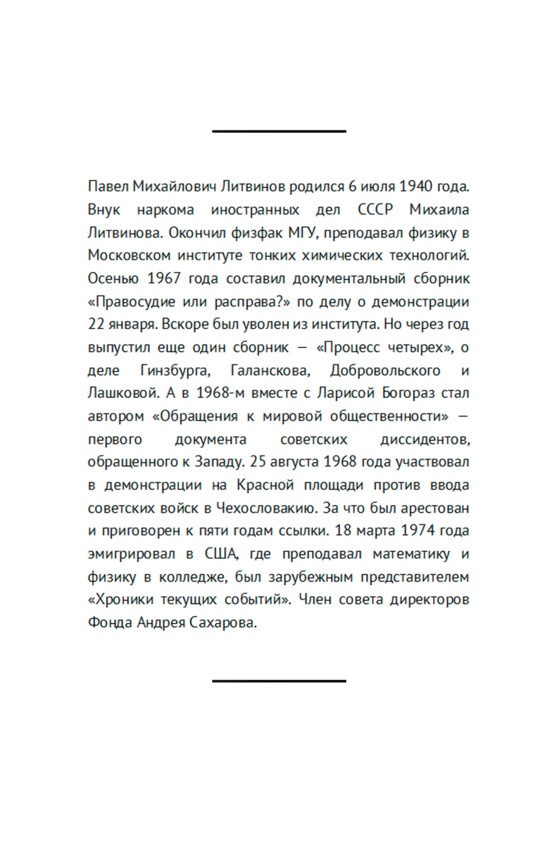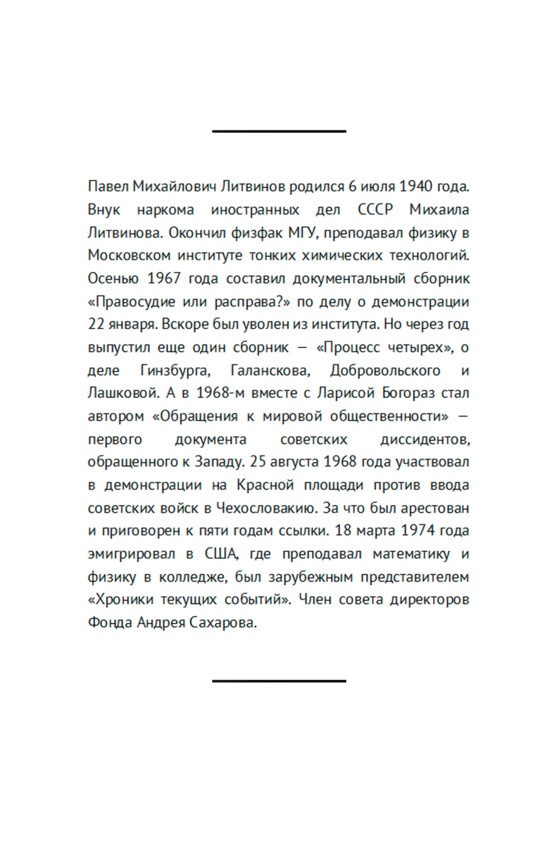
Наша семья была необычной даже для советской элиты. Дед был главой семьи, и жили мы все вместе до самой его смерти (мне тогда было одиннадцать лет). У нас была, по московским параметрам того времени, роскошная квартира, мы получше питались благодаря какому-то специальному снабжению. Но все остальное было очень скромно, дед старался соблюдать стандарты старых большевиков. Воспитывали меня на русской литературе XIX века, которая построена на сочувствии маленькому человеку и направлена против государства как олицетворения безличной силы. Да и коммунистическая идеология тоже не такая простая штука. Мы привыкли к ее тоталитарной версии. Но ведь ее основой была социал-демократия, также основанная на сочувствии к бедным рабочим и крестьянам, на марксистском протесте против эксплуатации.
К тому, что происходило вокруг, все, включая деда, относились так или иначе отрицательно. Со мной своими сомнениями насчет советского режима он не делился, это они с родителями обсуждали. Что не мешало мне читать газету «Пионерская правда» и верить в описываемое ею прекрасное социалистическое будущее нашей страны. Поэтому когда на улице я встречал бедных людей и побирающихся инвалидов войны, во мне закипало возмущение. Или когда мы ездили на лыжах кататься под Москву на станцию Турист и видели эти беднейшие села, в которых мы останавливались. И тем более когда мы добирались до Осташкова на Селигере, где все было еще хуже — люди жили без электричества. Я не готов был признать, что при советской власти такое возможно. С одной стороны, во мне зарождался протест, а с другой — сохранялась вера в идеалы. Вот из этого внутреннего противоречия, наверное, и выросло мое диссидентское будущее.
Когда умер Сталин, я плакал. После ХХ съезда я радовался, что возвращается марксизм и ленинские нормы партийной жизни. А потом, причем довольно быстро, вслед за Сталиным ушел из моей картины мира и Ленин; я стал, можно сказать, антикоммунистом. Хотя это слово никогда не любил и не употреблял.
Я все больше читал — и все больше узнавал. Появился доклад Хрущева, который мы не читали, но пересказывали друг другу. Потом был журнал «Новый мир», поэма Твардовского «Теркин на том свете». Немного позже появился «По ком звонит колокол» Хемингуэя, который еще не опубликовали, но уже перевели. Моя тетка, Татьяна Максимовна, была художником и переводчиком, поэтому у меня был доступ ко многим текстам.
Конечно, мы говорили о советской власти, но не прямо. Например, слово «цензура» не упоминалось, но было понятно, что зажимают рот и не печатают, что где-то там есть такой орган Главлит, который решает, что хорошо, что плохо. А я верил, что печатать надо все и разрешать надо любые дискуссии.
В 1956-м мы с приятелем задумали сделать марксистский кружок, чтобы серьезно изучать Маркса и Ленина. А потом произошло вторжение в Венгрию, которое стало для нас большим шоком. Мы надеялись, что Хрущев достаточно изменил Советский Союз, но оказалось, что это не так. А когда я узнал про расстрел Имре Надя (у нас в газетах это появилось только спустя какое-то время), то осознал наконец, насколько мне отвратителен этот режим. Но вывод я сделал робкий: всюду плохо, Советский Союз очень плохой, но и Америка не лучше. Поэтому надо жить своей частной жизнью, заниматься наукой. Я увлекся физикой, стал еще больше читать. Любые протесты казались мне тогда бессмысленными.
А потом вдруг что-то сдвинулось с мертвой точки ширился самиздат, все вокруг читали доклад Григория Померанца о роли личности в истории, в университете выступали Надежда Мандельштам и Варлам Шаламов, даже в троллейбусе можно было встретить людей, читающих явный самиздат. Было ощущение, что вся интеллигенция движется в одном направлении. Период с 61-го по 67-й год — это время возникновения пока еще невинных настроений, которые впоследствии назовут диссидентскими.
Тогда я впервые услышал стихи Окуджавы и Слуцкого в исполнении Вадима Кожинова. Был такой литературовед, неформальный лидер литературных консерваторов, с которым я познакомился через дальних родственников. Сложный был человек, но талантливый. Однажды в квартире своего тестя Владимира Ермилова, сталинистского литературного критика, он устроил выставку картин Оскара Рабина. В тот вечер читал свои стихи Игорь Холин, говорил о культуре Сергей Чудаков. Там было очень много народу, я тогда впервые увидел Андрея Синявского и познакомился с Аликом Гинзбургом. Алик был большой энтузиаст и очень хотел, чтобы люди любили то, что он любит. И тогда он стал делать машинописные сборники поэзии под названием «Синтаксис». Там были стихи Бродского, Красовицкого, Горбаневской и многих других поэтов. Если бы Алик родился в какой-нибудь другой стране, он стал бы крупным издателем. Но вместо этого получил срок.
Первый раз его арестовали как раз за «Синтаксис» и за то, что он распространял книги, которые ему привозили с Запада. Потом его чуть не арестовали за то, что кто-то привез ему из-за границы русское издание «Нового класса» Джиласа и книгу стихов Есенина-Вольпина. Во второй раз ареста удалось избежать благодаря покаянному письму в «Вечернюю Москву», за которое многие его осуждали. Но я всегда с пониманием относился к человеческой слабости, поэтому мы, наоборот, сблизились в тот момент.
А потом была «Белая книга», куда Гинзбург собрал все, что касалось процесса Синявского и Даниэля. В том числе туда вошли материалы, опубликованные на Западе. Алику кто-то привез из-за границы целую пачку газет, а у меня были друзья, которые хорошо знали языки, я раздал им статьи, и мы перевели то, что писала западная пресса о деле Синявского — Даниэля. И это уже было самиздатской деятельностью. Я в это время заканчивал университет, собирался поступать в аспирантуру, начал преподавать физику в МИТХТ и очень тесно общался с Аликом. А потом его арестовали. Это был для меня переломный момент, я понял, что вокруг сгущаются тучи и надо что-то делать.
Потом была демонстрация Буковского, Хаустова и Габая
[4]. А у меня уже появилось много друзей среди диссидентов. Через Виктора Некрасова и Владимира Войновича я познакомился с Петром Якиром и Виктором Красиным. Но главное — Гинзбург перед арестом познакомил меня с Ларисой Богораз. Это была удивительная женщина, редкого ума. До всего доходила сама. Я как-то спросил ее: а есть какая-нибудь вещь, которую ты не можешь сделать? На что она мне ответила: если я могу о чем-то подумать, значит, я могу это сделать. Лариса была очень естественным в общении человеком, но когда она начинала говорить, ты чувствовал, что должен слушать.
Однажды мы с ее сыном Сашей Даниэлем поехали в лагерь, на свидание к его отцу. Мы стояли на крылечке и через колючую проволоку видели, как во дворе ходит человек с бородой, сложив руки за спиной. Это был Синявский. Я его когда-то видел в консерватории, а теперь он за колючей проволокой… Мы его окликнули, он стал с нами разговаривать, но нас отогнали.