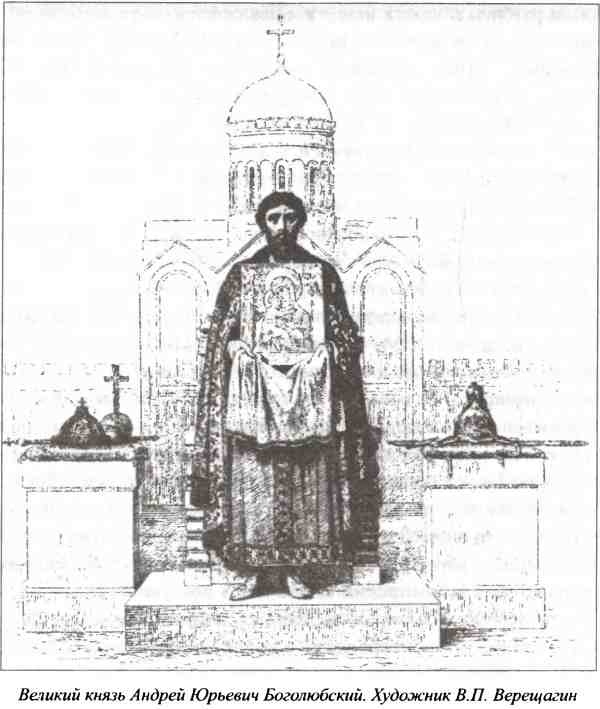Прибавить что-то к этому простому и гордому отчету о реальном рождении новгородской независимости сложно. Но нужно. Потому что уже следующий год показал, как нелегко удержать реальную, а не номинальную независимость и ЧТО для этой борьбы на самом деле значат некоторые торговые пути:
«Въ лѣто 6678 [1170]. Бысть дорогъвь Новегородѣ: и купляху кадь ръжи по 4 гривнѣ, а хлѣбъ по 2 ногатѣ, а медъ по 10 кунъ пудъ. И съдумавъше новъгородьци показаша путь князю Роману, а сами послаша къ Ондрееви по миръ на всѣи воли своей».
Андрей Юрьевич убедительно продемонстрировал значение такого оружия, как блокада транспортных путей для земли, попавшей в зависимость от внешних источников продовольствия. И год рождения реальной новгородской «воли» сменился годом окончательного оформления оружия против этой воли.
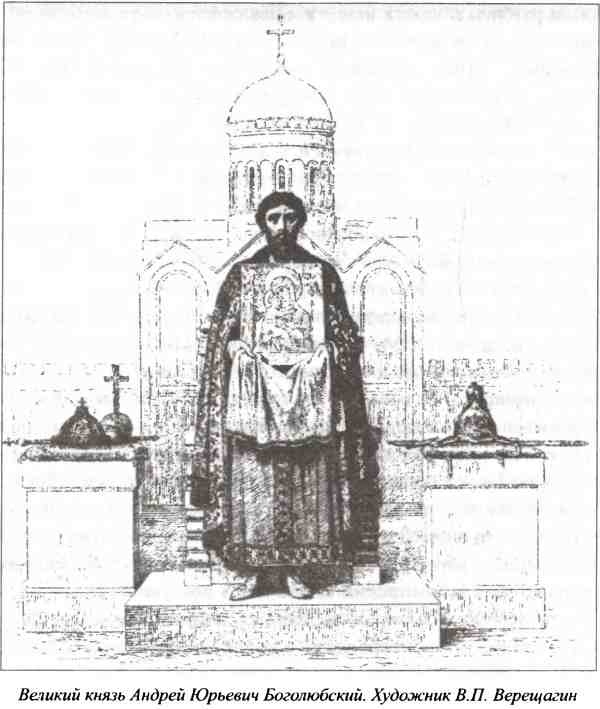
Боголюбский торжествовал недолго, но его смерть и последовавшая за ней распря между братьями Андрея и его племянниками наглядно продемонстрировали рождение еще одной крайне важной для истории России и крайне опасной для истории Новгорода тенденции: во Владимирской земле начало оформляться «оседание» князей на землю. Именно после убийства Андрея местная Лаврентьевская летопись определенно говорит о «новгородских» по своему стилю выборах князя во Владимирской земле: «Ростовци и Сужьдалци и Переаеславци и вся дружина от мала до велика. съѣхашася к Володимерю и рѣша се… по кого хочемъ послати» [ПСРЛ. Т. 1, стлб. 371], причем ход событий показывает, что разные города не только выбирают «своего» князя (Ростов стоит за суздальских Ростиславичей, племянников Андрея Боголюбского, Владимир — за братьев Андрея Михалку и Всеволода), но и яростно сражаются за свой выбор с оружием в руках [ПСРЛ. Т. 1, стлб. 372–376] (что, увы, далеко не всегда готовы были делать новгородцы). Новгородцы попытались ловить тогда рыбку в мутных водах ростово-владимирских столкновений, но без особого успеха (суздальские Ростиславичи, на которых они поставили, были разбиты и даже в конце концов ослеплены то ли Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо, то ли разъяренными жителями Владимира). Но бедой для Новгорода стало не это поражение, а принципиальная разница между борьбой за «волю новгородскую» с Юрьевичами — и борьбой за те же новгородские интересы с теми же Юрьевичами и Владимирской землей. И ярче всего эту разницу отражает не пертурбации на новгородском столе (где Юрьевичи все чаще и чаще теснят Мстиславичей-Ростиславичей), а появление новых опорных пунктов Владимира и его князя на важнейших новгородских путях. Именно в правление Всеволода Юрьевича появился Великий Устюг у слияния Юга и Сухона, перекрывший новгородцам путь в Северную Двину (недаром в XIV–XV вв. новгородцы не менее шести раз пытались уничтожить или захватить эту «родину Деда Мороза» и владимирско-московского контроля над Севером). Именно в правление Всеволода Юрьевича после взятия и разрушения Торжка на еще более важном для новгородцев «южном хлебном пути» по Тверце появилась новая владимирская крепость Тверь, отрезавшая от «Северной столицы» еще и важный для неё Волок на Ламе. Эти опорные пункты серьезно изменили конфигурацию отношений в паре Новгород — Владимир: со времен Всеволода Юрьевича владимирский князь имел возможность, не прилагая особых усилий, и перекрыть подвоз хлеба в Новгород, и перенять новгородские «дани», собираемые по Двине, Печоре, Югре и ставшие кровью новгородской экономики. Даже битва под Липицей 1216 г., которую можно, не слишком погрешив против истины, расценить как крупную победу Новгорода над владимирской экспансией (хотя на самом деле тогда по разные стороны копья оказались люди и Владимирской, и Новгородской земель), не изменила кардинально положения дел. И с 30-х гг. XIII в. «трудами» Ярослава Всеволодовича, одного из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо, Новгород признал верховный суверенитет великого князя Владимирского. В 1250-х Александр Ярославич Невский окончательно привязал «Северную столицу» к Владимиру и великому князю Владимирскому (а «заодно» — к государству Джучидов). Наконец, в совершенно неподцензурной приписке 1296 г. на новгородской же рукописи из комплекта Софийских служебных миней [см. рук. ГИМ, Син. 161] «Северная столица» называется «отчиной» Даниила Александровича Московского. Этот князь, конечно же, не имел никаких отчинных прав на Новгород Великий, но тем ярче эта приписка характеризует отношение новгородцев к власти Александра Ярославича. История Новгородской республики выходила на финишную прямую.
Загадка новгородских экспортно-импортных операций. Но чем же были так важны для Новгорода пути-дороги, о контроле над которыми и шла речь в предыдущем подразделе? Загадки тут особой на самом деле нет. По «южным путям» через Тверь и Торжок в Новгород шел хлеб. К XIII в., ко временам Всеволода Большое Гнездо, большинство пригодных для земледелия площадей в Новгородской земле (в Деревской, Шелонской и на юге Водской пятин) уже были распаханы. При этом даже в условиях все еще продолжающегося «малого климатического оптимума» периодические неурожаи приводили к нехватке продовольствия [Борисенко Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычных явлений природы. М.: Мысль, 1988, см. Приложение; Кирьянов А. В. История земледелия Новгородской земли X–XV вв. (по археологическим материалам) // Материалы и исследования по археологии СССР. 1959. № 65. С. 362]. В этих условиях — как более чем наглядно показал опыт 1170 г. — сила, контролирующая подвоз хлеба, могла добиться от Новгорода очень и очень многого.
По «восточному пути» (Волхов — Ладога — Свирь — Онега — далее везде) шли товары из новгородских «колоний». И чтобы увидеть и пощупать эти потоки, чтобы оценить их значение, нам как раз и понадобится разобраться с внешней торговлей Новгорода Великого.
В серьезной работе А. Л. Хорошкевич «Торговля Великого Новгорода в XIV–XV вв.» в балтийском экспорте города особо выделены две группы товаров: пушнина и воск. Пушнина являлась, видимо, самой крупной и самой «демократичной» статьей новгородской торговли: до 90 % оборота мехов составляла белка, которой теоретически могли торговать не только купцы и бояре Новгорода, но и простые горожане и крестьяне [см. содержание берестяной грамоты № 310. Арциховский А. В. Раскопки 1956 и 1957 гг. в Новгороде // Советская археология, 1958. № 2. С. 240]. Средний крестьянский двор даже в центральных, наиболее заселенных районах Новгородской земли мог добыть за год от 30 до 100 белок, что при продажной цене 1000 шкурок в 25–30 марок давало ему 2–3 марки дохода в год. При этом на практике, по мнению А. Л. Хорошкевич, заметным участие «меньших» людей в торговле мехами стало лишь в конце XV в., после гибели самой Новгородской республики, — до этого в экспорте решительно преобладала торговля крупными и средним партиями, сотнями и тысячами шкурок [HanseRecesse, abt. 1, bd. Ill, n. 438, s. 451]. А анализ огромного массива новгородских берестяных грамот (на сегодняшний день найдено порядка тысячи штук) даёт нам лишь единичные примеры самостоятельного участия новгородских и окрестных «меньших» людей в меховой торговле. Зато в этих грамотах мы встречаем регулярные указание на сбор оброка пушниной (см., напр., грамоту № 1) и обыденное сообщение о партии в 40 бобровых шкурок стоимостью примерно в 2 кг серебра [см. грамоту № 420; для сравнения укажем, что крупнейшей партией бобров, зафиксированной у одного купца, была партия в 60 шкурок. HanseRecesse, abt. 1, bd. VIII, n. 960, s. 628].