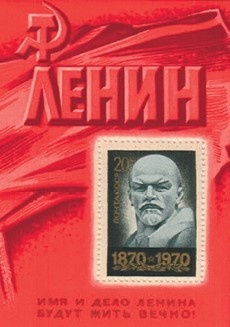Прочитав много лет спустя такое определение, я растерялся. Мне Петр Кириллович показался скорее вполне советским ученым (стало быть, далеким от «причастия агнца»), достаточно образованным, уверенным и партийным, спокойно-циничным, очень серьезно относящимся к себе и своим научным достижениям и при этом веселым, разгульным, даже опасным своей необузданностью человеком. Еще до того, как мы сели в вагон, вынул из кармана одеколонную склянку. Я полюбопытствовал: что за парфюмерия? «Водка», — ответил Суздалев буднично и пригубил, отчего посветлел — до этого был угрюм и казался уставшим. Пригубливал он постоянно и пил за каждой едой — иначе заболевал.
Перед этой поездкой мы должны были зайти не куда-нибудь — в ЦК. В знаменитом здании на Старой площади я был первый и последний раз. Васильковые петлицы и околыши вежливых и деревянно-бесстрастных прапорщиков-гэбистов, лакированные мертвые коридоры и эти таблички: «Тов. Иванов И. И.». Не просто «Иванов», а именно «товарищ» — как титул. Сначала в специальной комнате мы читали красную брошюру с правилами для отъезжающих в командировки в соцстраны. Собирающиеся в капстраны читали синие брошюры. Потом нас принял «товарищ» такой-то, партийный клерк с «государственным» выражением на лице. Объяснил, что мы должны пропагандировать решения очередного съезда КПСС и как именно мы должны это делать в НРБ. Закаленный в партийных бдениях Петр Кириллович сидел с непроницаемо-почтительным выражением лица. Потом чиновник задумчиво сказал: «Что ж, мы дадим МИДу добро на ваш выезд. Вы когда едете?» — «Завтра», — несколько смущенно ответили мы, боясь, что ставим собеседника, от которого уже ничего не зависело, в смешное положение: был вечер пятницы. Он нимало не смутился и пожал нам руки со значительной миною. Привычный Суздалев и выйдя за ворота сохранил приличное молчание в ответ на мое натужное глумление. Он понимал, где мы живем, и держался достойнее меня: принимая поездку из этих рук, что было смеяться над ними…
Болгары не знали, что с нами делать, — отношения с СССР были так себе. Но принимали по-царски: поселили в роскошной гостинице «София», вполне западной, с вышколенным на европейский манер персоналом, охотно задавали пиры, сами пируя вместе с нами на никем не считаемые представительские деньги.
Возили по стране, мы летали в Тырново, Пловдив. Вежливо послушали наши ненужные им доклады, приглашали в гости (не к художникам, начинавшим тогда писать почти на западный манер, а к более дипломатичным коллегам-критикам) и меняли денег столько, сколько мы хотели, — потом эти рубли отдавались приезжающим в Союз болгарам.
Странно было видеть страну «социалистическую» и, казалось бы, совершенно нищую, где тем не менее в ресторанах вкусно и не так уж дорого кормили, официанты были предупредительны, те, кто постарше, говорили на нескольких языках, где в магазинах полно было вещей, о которых у нас можно было лишь грезить, — аж кожаные куртки и перчатки!
Коммуналок в Софии, видимо, не знали, но в городских домах наших коллег случались и вполне деревенские удобства. Интеллигенция, как часто бывает в маленьких и небогатых странах, оставалась гордой и образованной, старшее поколение училось за границей, многие говорили по-французски и по-немецки и все — по-русски, хоть и неохотно.
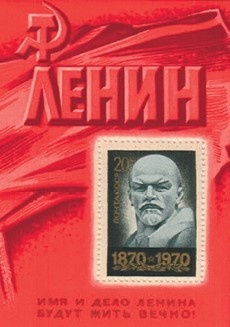
Ленин с нами. 1970
Болгары, которым мы были вовсе не нужны, отправили нас в конце концов на Черное море, в Бургас, где в пышных и совершенно пустых по причине глубокой осени отелях мы жили в одиночестве и пугающей тишине. Выбирать не приходилось.
Зато я впервые увидел античность. Показалось сначала — маленькую и провинциальную. Но вечерние камни и колонны древней Мессембрии (Несебыр) в шуме уже стынущего, октябрьского Понта Эвксинского и вечная тишь фракийских гробниц — все дышало подлинной, даже страшноватой древностью.
Я вернулся, накупив себе кожаных перчаток — там их было много, — еще какого-то барахла и советских дефицитных книжек, которые там продавались свободно. Много денег то ли постеснялся, то ли побоялся менять и никакой замши и прочей роскоши не привез.
Кончался страшноватый год, ничего, кроме чисто личных событий, не осталось в моих дневниках, память сохранила ощущение неподвижности и тоски. Уходил семидесятый, с установкой бюста Сталина у Кремлевской стены, с разгромом «Нового мира», с отупляющими и бесконечными празднествами столетия Ленина, породившими, кстати сказать, довольно дерзкие по тем временам каламбуры, из которых «мыло „По ленинским местам“» и «трехспальная кровать „Ленин с нами“» были самыми безобидными…
Тогда-то легко и привычно возникло притихшее было фараонство. До этого играли в «коллективное руководство», но посредством ленинского юбилея, надо полагать весьма продуманно, возродили официальное славословие, и оно незаметно перешло к «верному ленинцу» Брежневу. Даже самые твердолобые коммунисты, поверившие было после отставки Хрущева, что фанфарная лесть отменена, покачивали головами. Но быстро и с удовольствием втянулись. Мы опять жили среди практически неподвижных мнимостей, на фоне которых частная поездка за границу казалась немыслимой больше, чем когда-либо, и становилась редкой удачей. С точки зрения здравого смысла мне везло, но я все отчетливее осознавал свою «непринадлежность»: не принадлежал к тем, более всего нравившимся мне московским коллегам, счастливо сочетавшим вольность мысли, интеллектуальную отвагу с веселым и несколько циничным сосуществованием с официозом и даже преуспеянием в нем. Они немало ездили по свету, включались в какие-то делегации, совершали ритуальные поклоны, защищали советское искусство на «международных форумах», сохраняя при этом вполне прогрессивные позиции, много печатались, много и эффектно знали, не боялись жизни. Я им завидовал, хотел быть как они, но не настолько, чтобы очень стараться. Еще меньше тянуло меня в темный и суетно-благородный мир инакомыслящих.
Разумеется, я смертельно боялся всякой антисоветчины, боялся властей и старался быть во всем законопослушным, но было и нечто другое, что заставляло меня сторониться советского подполья. Старая моя мысль, что нетерпимость и фанатизм — тот же большевизм, только с противоположным знаком, постоянно подтверждалась. Даже самые одаренные и мужественные из диссидентов, случалось, бывали самоувереннее и надменнее партийных академиков.
Карьера партийного ученого и общественного деятеля — самая легкая, о ней и говорить нечего. Словом, я по-прежнему был, перефразируя Алексея Константиновича Толстого, «никаких станов не боец», да и «гость случайный» из меня получался кислый и брюзгливый. Я не вписывался в привычные жанры нашей профессиональной деятельности.
Были мои старшие коллеги, и первый из них — Каменский, брезговавшие званиями и карьерой, но писавшие бурно, блистательно, смело, участвовавшие в семинарах, круглых столах, обсуждениях, сессиях, ученых и художественных советах, выставкомах и комиссиях, находившиеся на виду, так сказать, со знаменем и во главе.