Совершенно очевидно, что Адмиралтейство сделало Непира козлом отпущения, отнеся на его счет неудачи балтийского похода. На него посыпалось множество обвинений: он якобы плохо владел тактикой использования паровых судов, подчиненные ему не доверяли, он был слишком робок и пристрастен к алкоголю, он, наконец, в свои 77 лет был слишком стар. Однако у сэра Чарльза нашлись и защитники, которые указывали на ошибочные действия самого Адмиралтейства — именно оно мелочным вмешательством мешало эффективному действию флота. И действительно, первая половина балтийской кампании велась хаотично.
На следующее лето британский флот вернулся в Финский залив, на этот раз им командовали контр-адмиралы Дандас и Пено. Им надлежало не только восстановить блокаду, но и взять и уничтожить Кронштадт. Флот из 38 кораблей включал в себя 20 винтовых судов и 4 фрегата, которые значительно превосходили русские силы. Однако за зиму укрепления Кронштадта были усилены, количество пушек в крепости увеличено. Подходы к цитадели защищали мины усовершенствованной конструкции. Хотя они и могли пробить насквозь толстый корпус бронированного корабля, их психологическое воздействие оказалось весьма ощутимым. Четыре британских корабля, осуществлявших разведывательную миссию, подорвались на этих минах и получили тяжелые повреждения. Подобно Непиру и Парсевалю, Дандас и Пено после оценки укреплений Кронштадта пришли к заключению, что взять Кронштадт можно только с непомерными потерями. Полагая штурм невозможным, они сочли за благо отвести флот.
Эскадра направилась к Свеаборгу, где успех казался более достижимым, и там 9 августа началось крупнейшее в этой кампании артиллерийское сражение. Войдя в створ крепости, союзный флот в течение двух дней выпустил по ней 20 000 снарядов, подвергаясь все это время ответному огню более тысячи орудий. Крепость защищалась стойко, и союзники вынуждены были отойти к входу в залив, где англо-французский флот оставался до начала декабря. Таким образом, эта глава Крымской войны закончилась ничем. Однако блокада Балтики успешно продолжалась.
Хотя выход в Северное море для русских был закрыт, для них оставался другой путь, хотя и менее вероятный, — через Белое море, обогнув северную оконечность Норвегии. Во время Второй мировой войны этот путь, пролегавший близ Северного полярного круга, получил название «маршрут мурманских конвоев».
На восточном берегу Белого моря в устье Северной Двины стоит портовый город Архангельск, который к середине XIX века был развивающимся и растущим торговым центром. Поскольку этот порт мог в принципе служить нуждам России в Крымской войне, союзники решили распространить свою блокаду и на эти северные воды. Три корабля под командованием капитана Эразмуса Омманея и два французских суда капитана Пьера Жильбера были посланы в Белое море, чтобы завершить план блокирования русского флота. В июле эта небольшая эскадра, состоящая из двух фрегатов и трех корветов (два из которых были паровыми) и имеющая в общей сложности 98 пушек, двинулась к цели вдоль норвежского побережья.
После короткой остановки в Хаммерфесте, где торговцы с готовностью бросились предлагать морякам свои услуги, союзники подошли к Архангельску и обнаружили, что город хорошо укреплен, а его гарнизон насчитывает 6000 человек. Не решившись нападать на Архангельск, эскадра двинулась к расположенным неподалеку Соловецким островам и обстреляла монастырь XV века и окружающие его строения. Истратив все боеприпасы, Омманей потребовал капитуляции, но защитники монастыря это требование тут же отвергли. Не зная, что делать дальше, английские суда уплыли прочь. Во время короткого боя один англичанин был убит, пятеро — ранены. У русских потерь не было. Французы в этой акции не участвовали — их корабли не приближались к монастырю.
Так и не напав на Архангельск и испытав разочарование у Соловецких островов, эскадра союзников направилась к небольшому рыболовецкому порту Коле на берегу Баренцева моря недалеко от современного Мурманска. Ранним утром 24 августа городок подвергся обстрелу. У защитников Колы была лишь одна батарея и десяток ружей. Капитан 14-пушечного корвета «Миранда» Эдмунд Лайонс написал довольно простодушный отчет об этом нападении:
…пушки вскоре удалось подавить, а батарею сровнять с землей. Мы продолжали обстрел домов и защитных частоколов, но ружейные выстрелы в различных частях города не утихали. У меня не оставалось выбора, и город пришлось уничтожить. Мы подожгли его зажигательными снарядами, ветер раздул огонь, и вскоре пламя полыхало повсюду. В это время судно оказалось в сложном положении. Прилив потащил его к берегу вместе со становыми якорями, и мы оказались менее чем в трехстах ярдах от охваченного огнем города. До нас долетали горящие обломки. Обливая водой такелаж и палубу, мы смогли избежать крупных неприятностей и, преодолев прилив, отойти от берега…
Это нападение не дало никаких результатов, если не считать, что было сожжено три четверти из 128 деревянных домов Колы и несколько пакгаузов. Впрочем, эту дыру в северной блокаде удалось залатать. Ввиду приближающейся зимы Омманей покинул субарктические воды и вернулся в Англию. До будущего года блокадный сезон на Балтийском и Белом морях можно было считать закончившимся.
В начале следующего лета в Белое море пришла новая эскадра союзников и блокада возобновилась, несмотря на просьбу Швеции сделать исключение для торговых судов. За все время пребывания в этих водах англо-французского флота никаких сколько-нибудь важных событий там не произошло. Немногочисленные прибрежные поселения ущерба не претерпели, однако союзники все же сожгли около шестидесяти мелких торговых судов. К середине августа эскадра присоединилась к объединенному флоту на Балтике, а затем все корабли вернулись в свои порты, чем и закончилась кампания на севере России в 2900 километрах от крымского театра военных действий.
Глава 14
Первые действия в Крыму
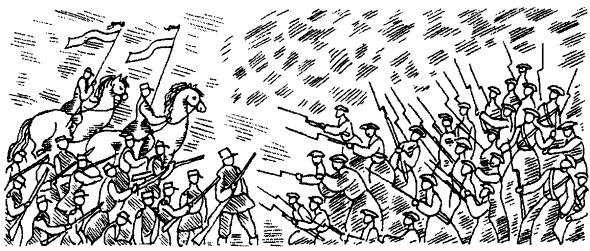
Тем временем на Черном море эйфория, охватившая союзников после выхода из Варны, растаяла и началась рутинная повседневная жизнь в морском походе. Теперь война переносилась на территорию собственно России, но цель этой войны по-прежнему оставалась в тумане. Союзники знали, что направляются к Крыму, но не имели достаточных сведений ни о топографии полуострова, ни о возможностях его обороны. «Обычные, здравомыслящие, а то и капризные люди — люди, умудренные циничной мудростью лондонских клубов, — оказались насильно преображенными в искателей приключений, пристально вглядывающихся, подобно древним аргонавтам, в берега неведомой земли, достижению которой они посвятили свою жизнь. Толпясь на палубах, они до боли в глазах пытались разглядеть то неведомое, что их ожидало», — писал Кинглейк.
Впрочем, ближайшая цель похода была определена: высадиться у Евпатории в Каламитском заливе, к северо-западу от Севастополя, после чего проделать марш в пятьдесят километров до самого укрепленного города. По результатам разведки южного побережья, проведенной ранее, союзники согласились, что именно пологие берега Каламитского залива являются идеальным местом для высадки. Во время этой разведывательной миссии «Карадок» в сопровождении двух линейных кораблей подошел так близко к Севастополю, что под явственно различимый звук церковных колоколов, призывающих прихожан на воскресную службу, адмирал Лайонс смог, приподняв шляпу, поприветствовать сидящего на лошади русского офицера. Все было спокойно и мирно, не чувствовалось никакого напряжения, и жители города занимались своими обычными делами, не обращая внимания на проходящие мимо военные суда.

