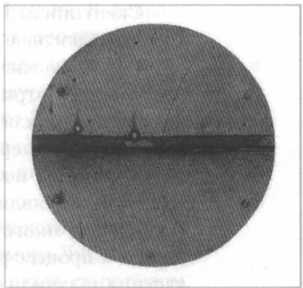Физик Патрик М.С. Блэкетт (1897-1974) был сразу же очарован результатами Андерсона и начал исследовательский проект по изучению космических лучей в Кавендишской лаборатории. Но вся слава в Кембридже в следующие месяцы досталась Джеймсу Чедвику (1891-1974) и его открытию нейтрона. В феврале 1932 года, через 12 лет после того, как Резерфорд предположил существование этой частицы, нейтрон был наконец обнаружен.
Летом 1932 года Андерсону удалось сфотографировать траекторию частиц, которые, казалось, соответствовали, с одной стороны, электронам, а с другой — положительным частицам, также отклонявшимся, как и электроны. Андерсон опубликовал результаты в журнале Science и в своей статье очень осторожно интерпретировал эти частицы. Закончил он ее следующими словами: «Представляется необходимым рассмотреть вопрос о существовании частицы с положительным зарядом, которая имеет массу, сопоставимую с массой электрона». Однако работа Андерсона осталась практически незамеченной. Кроме того, в его статье не устанавливалось никакой связи с гипотезой антиэлектрона Дирака.
В Кембридже Блэкетт и Джузеппе Окьялини (1907-1993) получили результаты, которые подтверждали результаты Андерсона, но они прямо соотнесли их с антиэлектронами Дирака. В опубликованной ими статье содержался следующий вывод:
«Кажется, не существует доказательств, опровергающих теорию Дирака; напротив, в этой теории предсказано достаточно долгое время жизни положительного электрона для наблюдения его в камере Вильсона и в то же время достаточно короткое для того, чтобы объяснить, почему он не был обнаружен другими способами».
Название «позитрон» появилось впервые во второй статье Андерсона, опубликованной в 1933 году. Эмпирическое открытие позитрона стало триумфом теории Дирака. Однако значительное число физиков продолжали сохранять критическое отношение к морю Дирака и интерпретации частицы как дырки в этом море. Бор писал: «Даже когда вопрос о позитроне установлен, я остаюсь при своем убеждении в том, что это не имеет никакого отношения к морю Дирака». Паули также писал Дираку: «Я не верю в вашу теорию дырок несмотря на то, что существование антиэлектрона доказано».
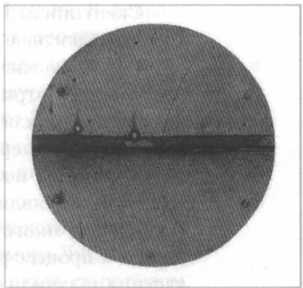
Фотография позитрона, сделанная Карлом Д. Андерсоном благодаря камере Вильсона — устройству, заполненному насыщенными парами и помещенному в магнитное поле; в нем заряженные частицы оставляют след своей траектории.
Скептицизм Паули и многих других физиков по поводу теории дырок еще некоторое время сохранялся. Нелегко было принять идею вакуума, образованного из бесконечного числа электронов с отрицательной энергией. Однако в то же время оставалось неоспоримым, что некоторые следствия данной теории (например, существование антиэлектрона и его отождествление с положительным электроном, обнаруженным Андерсоном) являются очевидными фактами. Должно было пройти еще много времени, прежде чем существование античастиц и процесс рождения и аннигиляции пар частица/античастица получили объяснение без использования моря Дирака.
ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА
Публикация релятивистской теории электрона сделала Дирака одним из самых уважаемых физиков в мире. Он все чаще участвовал в конгрессах и конференциях, поскольку его теория вызывала огромный интерес. Этот интерес к теории дырок и взаимодействию протонов и электронов с годами только рос. Дирак много ездил по разным научным центрам. Помимо главных европейских исследовательских центров (Копенгаген, Геттинген, Лейпциг, Лейден и так далее) он часто посещал США и Советский Союз. В феврале 1931 года Дирак был избран иностранным членом Академии наук СССР и официально считался большим другом Советского Союза. Он стал одним из немногих физиков, которые еще могли ездить в СССР после 1934-1935 годов.
Дираку открылась возможность работать на кафедрах в самых престижных университетах. В 1928 году, спустя несколько месяцев после появления его теории электрона, университет Манчестера предложил ему должность профессора. Чуть позже американский физик Артур Комптон пригласил его занять кафедру в университете Чикаго. В последующие годы выбор стал еще шире: Торонто, Принстон, Мадисон... Несмотря на более выгодные в экономическом смысле предложения, Дирак решил остаться в университете Кембриджа. В феврале 1930 года он был избран членом Лондонского королевского общества, что является самым престижным знаком признания научных заслуг в Великобритании. Эта процедура предполагает много предварительных голосований, однако Дирака избрали с первого раза. Кроме того, на тот момент ему было только 27 лет — гораздо меньше среднего возраста, подходящего для того, чтобы стать членом Общества.
В июле 1932 года руководство Кембриджского университета решило, что Дирак примет у Джозефа Лармора Лукасовскую кафедру. Такое назначение ни для кого не стало сюрпризом. Дирак считался одним из самых блестящих физиков того времени и, несомненно, самым блестящим физиком Великобритании. Казалось естественным, что именно он займет самую важную кафедру страны и одну из самых престижных кафедр мира. В XVII веке Лукасовскую кафедру более 30 лет занимал Исаак Ньютон. Дирак занимал ее в течение 37 лет. Кстати, оба ученых получили назначение в одном возрасте: у Дирака оно состоялось, когда ему только исполнилось 30 лет — всего на несколько месяцев больше, чем Ньютону, когда тот возглавил кафедру.
В 1933 году Дирак получил высшую научную награду — Нобелевскую премию. Когда в ноябре 1933 года были названы имена трех лауреатов, ученый был удивлен, в отличие от двух других претендентов — Гейзенберга, один раз уже получившего Нобелевскую премию в 1932 году, и Шрёдингера, который разделил с Дираком премию 1933 года. Дирак получил Нобелевскую премию в возрасте 31 года и стал самым молодым из всех нобелевских лауреатов, награжденных за исследования в области теоретической физики. Когда имена всех лауреатов были оглашены, стало возможным оценить исключительность присуждения премии Дираку в 1933 году: за свою карьеру он получил всего две награды, что резко контрастировало, например, со Шрёдингером, у которого их было одиннадцать. Нобелевская премия была присуждена ему «за открытие новых продуктивных форм атомной теории».
Физик Карл Вильгельм Озеен, личный друг Нильса Бора, произнес речь о Дираке перед Нобелевским комитетом. Озеен продемонстрировал критическое отношение к работе Дирака: он признавал ее ценность и оригинальность, но считал менее основополагающей, нежели работы других физиков, таких как Гейзенберг, Эйнштейн, Планк или Бор. В то время Озеен, вероятно, был неспособен оценить революционный характер теорий Дирака. Никакой другой исследователь не оказал такого влияния на развитие физики в последующие десятилетия.
Речь Дирака во время церемонии вручения Нобелевской премии была посвящена «теории электронов и позитронов». Он упомянул об антиэлектронах и антипротонах и заключил свое выступление следующими словами:
«Мы должны рассматривать тот факт, что Земля (и, возможно, вся Солнечная система) образована, главным образом, из отрицательных электронов и положительных протонов как случайность. Очень вероятно, что для некоторых звезд ситуация является обратной, то есть они состоят из позитронов и антипротонов. На самом деле половина звезд должна принадлежать к первому типу, а другая половина — ко второму. Две категории звезд имеют совершенно одинаковый спектр, и их нельзя различить при помощи методов современной астрономии».