Мы обнялись, чтобы согреться друг о друга. Некоторое время слышали только, как равномерно бьет копытами рысак. Вдыхали запах коньяка и шампанского, вырывавшийся облачками из наших ртов.
– Грустно, – вдруг сказал он.
– Из-за жемчуга? Не волнуйтесь. У «Медведя» обронили, не на Сенной. Жемчуг соберут лакеи, и управляющий будет ждать, пока вернется владелец. Владелица.
Я уже сама запуталась.
– Уф. Надеюсь, что нет. Матушка не выдержит, если узнает. А отец…
Помолчали. Лихач закладывал поворот.
– Грустно от несправедливости человеческой.
Так-так. Господин Чичерин успел вовлечь его в большевизм?
– И что с того, что кто-то любит иначе? – продолжал, стуча зубами, развивать свою мысль мальчик. – Однополая любовь – это одно, а любящие – это совсем другое.
– Он что, агитировал вас… в большевизм? Не верьте. Его интересуют деньги. Вы слышали, что случилось с московским миллионщиком Морозовым?
– Такими их природа создала, – словно не слышал он.
О. Похоже, напрасно мама и папа в особняке на Мойке будут ждать наследников – с одной стороны, и законных – с другой.
– Разве они виноваты? – рассуждал мальчик с пылом, от которого мне почему-то стало грустно. Наверное, оттого что я сама давно не гимназистка. Меня только на одно и хватило:
– Нет.
– Несправедливо.
Он еще долго бы рассуждал и требовал ответов. Но я устала, вдобавок от выпитого у меня разболелась голова.
Глава 5
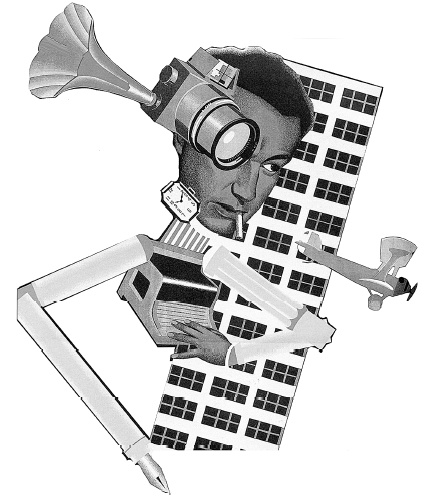
Пиджак оказался на спинке кресла. Сложенный пополам, с завернутыми внутрь рукавами. Ровно так, как он его вчера бросил.
Так и должно быть, когда живешь один. Все вещи находишь там и так, как их сам же оставил.
Но это-то и было странно. Потому что каждое утро Зайцев – где бы ни бросил вечером – находил пиджак на стуле. Проветренным, расправленным, выбитым и вычищенным либо «моей нянькой», либо «моей кухаркой». Бросал мятым, заляпанным, пыльным. А находил – Самый Чистый Пиджак Советского Союза.
Вчерашний хлеб тоже не был нарезан. А лежал там, где выложил его Зайцев, – в газете на столе. И это была вторая странность. Хозяйства у Зайцева не было, и «нянька» с «кухаркой» остервенело набрасывались на то немногое, что могли сделать: брать у него деньги просто так, задаром спать у Паши в углу им было совестно.
А теперь пиджак и хлеб лежали нетронутыми.
На сердце у Зайцева сразу стало так тошно, точно через минуту предстояло умереть. «Соседи стукнули – и ночью забрали».
Вышел на общую кухню за кипятком. Соседки пожелали «доброго утра». Одна вешала белье. Другая варила кашу. Третья караулила кастрюльку с бигуди. За развешанными простынями слышалось «вжик-вжик-вжик» – кто-то чистил обувь. «Не насри мне тут смотри. Ваксой-то. Брызги вон летят», – пробурчала невидимой щетке соседка: не злобно – устало. Зайцев посторонился: пропустил соседа с дровами. «Добренькое утречко». Отозвался: «Доброе». И подумал: «Кто-то из них – стукнул». И двух женщин, сбежавших из голодающей деревни в город, все-таки настигла злая доля. А мальчик? Взяли с матерью и в детдом теперь… Не пожалели, с отвращением глядел он на хлопочущих соседок. С виду человек. Но только с виду. Тронь – ощерится. Полезет из человеческой оболочки чудище.
– Ты чего, товарищ Зайцев? – сердобольно удивилась соседка с пустым тазом в руках.
– Что?
– Больной какой-то на вид. Выпимши вчера был, что ли?
Он еле сумел выдавить:
– Нет.
«Кто-то из них – донес». Написал донос, погубил двух женщин, ребенка. И живет дальше, как ни в чем не бывало. Здоровьем моим интересуется. «И я никогда не узнаю кто». Он прислонился лбом к дверному косяку. Желудок схватило ледяной коркой. «А Паша?!» Обе крестьянки и мальчик спали в ее дворницкой комнатке. Если взяли ночью, то у Паши. А если и ее…
– Вы хорошо себя чувствуете? – тут же отозвалась другая. И даже «вжик-вжик» прекратилось: сосед показал из-за простыней красную рожу и оказался слесарем Курочкиным. Васильковые глаза его тоже глядели сочувственно:
– Ты чегой, Василий, правда, што ль?
– Вот прицепились. Устал человек, – отозвалась соседка, помешивая бигуди. – Не в конторе штаны просиживает.
– Не обижайся, товарищ Зайцев. Но что-то ты правда зеленый.
– Отлично себя чувствую. Лучше не бывает.
И вышел, забыв, что собирался греть воду.
Хлопотать? Звонить? Куда?
Пройдусь пешком, решил он, спускаясь по ступеням. Мойка с ее неровной и одновременно стройной набережной всегда успокаивала, проясняла мысли… Или наоборот – поступить, как он сам совсем недавно советовал бывшему военному ветеринару? – бросить всё, не заходить больше в квартиру – сесть на первый попавшийся поезд, и…
Толкнул дверь – в утренний свет, в воздушный простор набережной. Поодаль, высоко над крышами сверкал на солнце бронзовый шлем Исаакиевского собора.
Паша нашлась у парадной. В дворницком фартуке, при бляхе. Стуча по дну, вытряхивала ведро в бак. Зайцев так удивился, что даже не смог обрадоваться.
– Привет, Паша.
– Здорово. На службу чешешь?
– Не. Бросил я ее, Паша. Скучно.
Ведро остановилось.
– Чего я там хорошего, красивого вижу?
Недоверчивый взгляд – ждет продолжения.
– В цирк решил поступить.
Паша усмехнулась. Покачала неодобрительно головой:
– Треплешься.
И не дожидаясь ответа:
– Да они тя допоздна ждали. Подосвиданькаться чтобы. Я им: не надо. Последний день, што ль? Служба у него: он, может, сегодня в ночь ушел. Не поминайте лихом. Идите уже с богом.
– Куда?
На сердце отлегло. Паша волокла бак, рассказывая на ходу:
– Да место приискали. Семья с детками. На Петроградке. А у других старуха лежачая, в Озерках. Им сиделка нужна была, и мальчишка не помеха.
От сердца разлилось тепло. И оно сразу перемешалось с жаром стыда: а думал на соседей.
Паша остановилась, вытерла руки о фартук. Запустила руку в карман, выудила:
– На вот те. Передать велели. На вечную добрую память.
На большой грязной ладони был корявый, слегка смявшийся в Пашином кармане пластилиновый слоник, весь в маленьких отпечатках пальцев. Точнее, слониха – знаменитая ленинградская Бетти: Сашка с матерью успели побывать в зоосаде, доселе невиданный зверь поразил мальчишку.
Зайцев взял.

