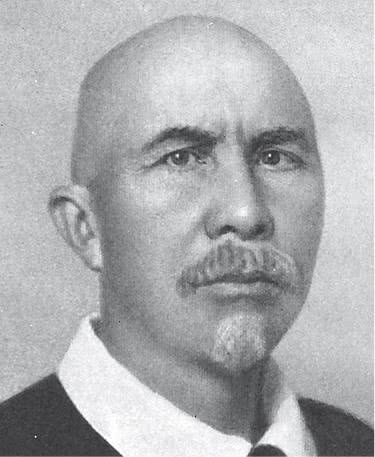Он любил и пошутить и посмеяться всякой нашей шутке и острому словцу. Лукаво прищурив глаз, он встречал каждого нового гостя, «церемонно» представлял своей жене, Фекле Родионовне, приглашал к столу и начинал «допрашивать»:
– Ну, молодой человек, вижу, по глазам вижу, что сочинили вы что-то необычайное. Не секретничайте, батенька, не секретничайте…
[639]
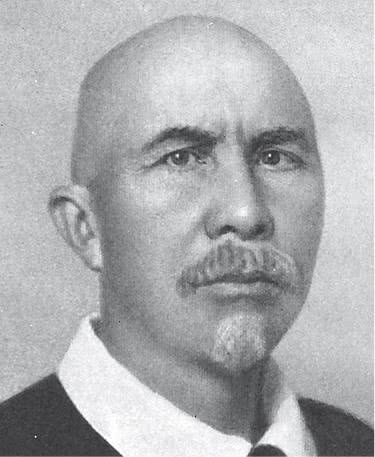
Александр Серафимович
Крестьянка из Тульской губернии, Фекла (Фекола) Родионовна Белоусова много лет работала в семье Серафимовича, пока не вышла за него замуж в 1922 году, когда ему было пятьдесят девять, а ей – тридцать. Они жили с матерью Феклы, которую все называли Бабулей, – сначала в Первом Доме Советов по соседству с Воронскими, а потом в отдельном доме на Пресне.
Серафимович любил петь народные песни. По словам одного из членов его кружка:
Голос у него был весьма посредственный, но пел он с большим увлечением и при этом сам себе дирижировал. Неизменным нашим слушателем была теща Серафимовича, большая поклонница его пения. Бывало, сидим с ним, поем, а теща, подперев рукой щеку, смотрит на него с умилением и восхищенно повторяет:
– Какой голос! Какой голос!
Ему, конечно, это льстит, но все же он с напускным равнодушием и некоторым задором говорит:
– Постой, теща, мы еще не так споем!
[640]
Но на первом месте шла литература. По воспоминаниям Исбаха, главным событием в жизни кружка был вечер, когда Серафимович читал рукопись «Железного потока».
Вечер этот был каким-то необычайно торжественным. Особенно блестел ярко начищенный самовар, и стол был уставлен всякой снедью. Фекла Родионовна даже испекла исключительные, замечательные пироги.
Вокруг стола сидели писатели старшего поколения: Федор Гладков, Александр Неверов, Алексей Силыч Новиков-Прибой. Мы, юнцы, скромно отступили на второй план.
Белый отложной воротничок Александра Серафимовича был ослепителен.
Фекла Родионовна потчевала вином и пирогами.
Александр Серафимович, как всегда хитро подмигнув нам, прищурил глаз.
– Я, братцы, хитрый… Вот подпою вас, хлопцы, чтобы подобрее были. А потом критикуйте…
Читал он хорошо, неторопливо, с выражением.
Чтение продолжалось до полуночи. И как же мы были горды за нашего старика, достигшего своей творческой вершины
[641].
А старик гордился ими. «В драку лезьте, не щадя сил, – говорил он (по воспоминаниям Гладкова), – и победа будет на вашей стороне. Чего вы возитесь с этой вашей публикой? Да, может быть, они и вредители…»
Основные дискуссии происходили в Доме печати. Александр Серафимович восседал в президиуме среди комсомольцев, как патриарх. И часто, выступая с резкой, задиристой речью, мы оглядывались на него, замечали его ободряющую улыбку, лукавый прищуренный глаз и снова, уже увереннее, бросались в бой
[642].
В июне 1925 года Политбюро объявило перемирие. «В классовом обществе, – писал Бухарин в постановлении «О политике партии в области художественной литературы», – нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике». С одной стороны, партия видит в пролетарских писателях «будущих идейных руководителей советской литературы» и «всемерно поддерживает их и их организации». С другой – решительно борется против «легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству» и «претенциозного, полуграмотного и самодовольного комчванства». В сферах жизни, имеющих отношение к «огромной силе чувства», партийное вмешательство имеет границы. «Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различию взглядов на форму и стиль), как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя в общем она, несомненно, руководит строительством нового быта»
[643].
Обе стороны отпраздновали победу, и после короткого затишья война возобновилась. Леопольд Авербах, выдвинувшийся в руководители РАППа, заявил, что «Карфаген Воронского должен быть разрушен». Воронский ответил обобщением и предупреждением:
Авербахи – не случайность. Он – из молодых да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, всюду поспешающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся. Разумеется, они клянутся ленинизмом, разумеется, они ни на йоту никогда не отступают от тезисов. В нашей сложной, пестрой жизни их вострота подчас принимает поистине зловещий оттенок
[644].
Тридцать первого октября 1925 года бывший сокамерник Воронского и его главный покровитель в ЦК, нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе, умер от отравления хлороформом во время операции язвы желудка. Спустя три месяца Борис Пильняк посвятил Воронскому «Повесть непогашенной луны» (о том, как герой Гражданской войны умирает от отравления хлороформом во время операции язвы желудка). Командир Гаврилов не хочет ложиться на операцию, но «негорбящийся человек», чьи движения «прямоугольны», а «каждая фраза – формула», говорит ему, что операция и сопряженный с ней риск в интересах революции: «Историческое колесо – к сожалению, я полагаю – в очень большой мере движется смертью и кровью, – особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови». В ночь перед операцией Гаврилов заходит к своему старому товарищу, Попову, который живет с маленькой дочерью в одном из Домов Советов. Попов подробно рассказывает ему, как от него ушла жена – «о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого». Командир вспоминает свою жену, «которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова». Поздно ночью он встает и собирается уходить.